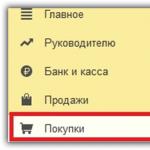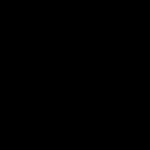Сидни филип - некоторые сонеты. О Стелла! жизнь моя, мой свет и жар
О.В. Дмитриева
Правомерность применения термина «культовая фигура» к эпохе, не знавшей средств массовой коммуникации, разумеется, может быть поставлена под сомнение. Однако если данное понятие и является анахронизмом для XVI в., то этого нельзя сказать о самом феномене коллективной одержимости некой личностью и превращения ее в объект неумеренных восторгов и поклонения. С этой точки зрения Ф. Сидни (1554-1586), бесспорно, можно отнести к разряду «культовых фигур» благодаря тому уникальному месту, которое он занимал в общественном мнении Елизаветинской поры. Никто другой, будучи всего лишь частным лицом, не пользовался таким безграничным моральным авторитетом и (если не искренней, то по крайней мере широко декларируемой) любовью современников, представлявших самые разные социальные, профессиональные и интеллектуальные слои. Его равным образом боготворили придворные, профессиональные военные, ученые, литераторы и поэты, государственные мужи и протестантские теологи как в Англии, так и на континенте. С Сидни как с эталоном соотносили себя и других, оценивая их качества и поступки. Мотив «образцовости» сэра Филипа, его как некой «модели» или «зерцала» очень настойчиво звучал в мемуарах, корреспонденции, литературе XVI в.
Многократно и на разные лады эту мысль развивал первый биограф Сидни и друг его детства Фулк Грэвил, сравнивая его с «сигнальным огнем» или «маяком» английской нации, «поднимающимся над нашим родным берегом выше любого частного Фаросского маяка в чужих краях, чтобы по точной линии их собственного меридиана они учились плыть через проливы истинной доблести в спокойный и широкий океан человеческой чести». «Почетно подражать или ступать по следам такого человека», - провозглашает он, признаваясь, что и сам стремится «плыть согласно его компасу». Сидни, по его словам, - «человек [который хорош] для любого поприща - для завоевания, колонизации, Реформации, всего, что считается среди людей самым достойным и сложным, и при этом он так человечен и привержен добродетели».
Отец Сидни, сэр Генри, писал младшему брату Филипа: «Подражай его доблестям, упражнениям, занятиям и действиям. Он редкостное украшение этого века, формула, согласно которой все молодые джентльмены нашего двора, склонные к добру, вырабатывают свои манеры и строят жизнь». Этот пассаж можно было бы легко приписать отцовскому тщеславию, если бы не множество созвучных высказываний, принадлежавших незаинтересованным лицам. Известный лондонский хронист Дж. Стау, например, утверждал, что Сидни «был истинным образцом достоинства», а У. Кемден считал, что в Англии мало кто мог сравниться с ним в манерах и владении иностранными языками.
Доказательством искреннего восхищения сэром Филипом служит тот факт, что по меньшей мере два человека, составляя собственные эпитафии, близость с ним отмечали как важнейший факт своей биографии, т.е. по сути самоидентифицировались через него. Упомянутый Ф. Грэвил повелел высечь на своем надгробии: «Друг Филипа Сидни», а оксфордский профессор Томас Торнтон: «Наставник сэра Филипа Сидни, этого благородного рыцаря в бытность того в Крайст-Черч».
Складывание легенды о Сидни - совершенном джентльмене началось еще при его жизни, когда он был еще молод и не успел совершить решительно ничего выдающегося на общественном поприще. Природа всеобщей очарованности им в эту пору труднообъяснима. И все же даже иезуит Т. Кэмпион, встречавшийся с ним в Праге, отмечал, что «этот молодой человек столь удивительно любим и почитаем своими соотечественниками». Что же касается союзников по протестантскому лагерю, их характеристики были еще более лестными. Ф. Отман называл Сидни «любимцем всего рода человеческого».
Когда же Сидни погиб, сражаясь за дело протестантизма в Нидерландах, оплакивание его как «первого рыцаря» Англии приобрело поистине общенациональный масштаб. Его тело было переправлено на родину со всеми возможными почестями и торжественно погребено в соборе Св. Павла - редкая честь, оказанная человеку такого ранга, который не был ни крупным военачальником, ни государственным деятелем. По свидетельству современников, траурная процессия с трудом продвигалась по улицам Лондона, заполненным множеством скорбящих, выкрикивавших: «Прощай, достойный рыцарь, любимый всеми друг, у которого не было врагов, кроме случая». Заметим, малодостоверный текст в устах толпы, что, впрочем, не ставит под сомнение присутствия самой толпы, оплакивавшей героя.
Двор погрузился в необычно долгий траур; в течение нескольких месяцев считалось неприличным появляться во дворце в светлых одеждах. Поскольку двору как редкостному собранию честолюбцев искренняя скорбь об утрате одного из их среды едва ли свойственна, можно усмотреть в продолжительном трауре демонстрацию поведения, считавшегося приличествующим данным обстоятельствам. Тем любопытнее, что придворные сочли необходимым столь основательно оплакивать Сидни, отдавая должное его репутации «первого среди английских джентльменов».
Один из протеже Филипа Сидни, поэт Николас Бреттон, в траурной элегии нарисовал картину поистине вселенской скорби над могилой его патрона, перед которой чередой проходили со слезами сама королева, ученые, военные, пэры королевства, горожане и даже иноземцы, очевидно протестанты, хотя, возможно, Бреттон имел в виду и представителей католических держав, ибо он передал их ламентации по-итальянски:
Со всеми оговорками о преувеличенном изображении в поминальной поэзии эмоций, связанных с гибелью Сидни, многие действительно переживали ее как личную утрату, осознав, что Англия потеряла одного из одареннейших джентльменов - многообещающего политика, искреннего протестанта, патриота и талантливого поэта.
Смерть стала центральным событием его жизни и, по желчному, но справедливому замечанию одного из современных исследователей, «пиком его карьеры». После нее миф о сэре Филипе стал формироваться с необычайной быстротой: в течение нескольких лет возникла обширная традиция, посвященная ему и представленная произведениями самых разных жанров: мемуарами, одами, элегиями, поэтическими эпитафиями, авторами которых были лучшие поэты той поры - У. Рейли, Э. Спенсер, Дж. Пил, Н. Бреттон, Э. Дайар и др.
Таким образом, уже в 80-90-е годы Сидни становится объектом осмысления в культуре его эпохи. Оставляя за рамками данного исследования вопрос о том, насколько опоэтизированный образ «первого рыцаря» соответствовал действительности, сосредоточимся на самом мифе о Сидни, его основных составляющих, их внутренней иерархии и возможной эволюции, поскольку очевидно, что общество интуитивно и совершенно безоговорочно увидело в нем свой идеал; следовательно, осознав, что именно импонировало в нем современникам, мы сможем приблизиться к пониманию системы этических ценностей елизаветинского общества.
Миф о Сидни создавался весьма образованными людьми; неудивительно, что в нем отчетливо прослеживаются элементы античного канона жизнеописания, согласно которому подчеркиваются выдающиеся качества будущего героя, которые уже во младенчестве указывали на его высокое предназначение. Один из мемуаристов, доктор Томас Моффет, например, со всей серьезностью утверждал, что Сидни родился с «очаровательной и прекрасной внешностью и со сложением, предназначенным для военного дела... с громким, почти мужским голосом и, наконец, с прекрасным, определенным и абсолютным совершенством тела и души». По-видимому, он был не единственным, писавшим в этом роде, на что указывает ремарка С. Джентили о тех, кто приписывает Сидни «гениальность уже в детстве».
Одними из главных моральных добродетелей юного Филипа неизменно называются серьезность, редкие в молодости мудрость и рассудительность. Ф. Грэвил заявляет, что, хотя был его товарищем с детства, «не знал его иначе как мужчиной... который выказывал благородство и достоинство, не свойственные даже более зрелым годам». В изображении своего друга и биографа, Сидни постоянно думал и говорил лишь об учебе и знаниях, отвергая пустые игры, а занимался столь успешно, что наставникам было чему у него поучиться. Ему вторит Л. Брискетт, который характеризует Сидни словами Цицерона, сказанными в адрес Сципиона Африканского: «Зрелость пришла к нему раньше, чем годы».
Это его свойство очень изящно подчеркивает Бен Джонсон в поэме, посвященной Эдварду Сэквилу, где он рассуждает о том, что
Человек может оказаться великим по воле случая,
Но случайно сделаться добрым - невозможно.
Тот, кто поутру им не был, к вечеру не станет Сидни,
Как и глупец не проснется с утра умнейшим в христианском мире.
Таким образом, имя Сидни становится нарицательным, синонимом самой доброты.
Другой великий елизаветинец, художник Н. Хиллиард, вспоминая Сидни, отмечал в первую очередь это же качество; для него сэр Филип - прежде всего «превосходный человек», а лишь потом доблестный рыцарь, ученый и поэт.
Панегиристы, таким образом, видят в Сидни средоточие всех моральных добродетелей, которые столь высоко ценились в кругах, причастных к гуманистической культуре. И все же с еще большей настойчивостью современники превозносили в нем качества, которые можно с полным правом отнести к «сословным добродетелям», восходящим к позднесредневековому рыцарскому эпосу. Образ, в котором его главным образом воспринимают и представляют читающей публике, - это рыцарь в сияющих доспехах, благородный английский дворянин, затмивший на поле брани всех орландо и баярдов.
Эпоха, безусловно, внесла свои коррективы в трактовку образа идеального рыцаря: Сидни в этой роли выступает утонченным молодым придворным, совершенным учеником Кастильоне, человеком чести, дуэлянтом, блестящим турнирным бойцом, галантным собеседником и поэтом, который, как и положено кавалеру, влюблен в прекрасную даму - таинственную Стеллу его сонетов. Одним словом, он олицетворение идеала неокуртуазного века. Его величают «рыцарем Паллады, не имевшим себе равных»; поэт Дж. Пил именует Сидни «благороднейшим цветком среди всех, что можно отыскать от Востока до Запада», а Эдмунд Спенсер награждает его титулом «первейшего в благородстве и рыцарственности». После гибели сэра Филипа неоднократно отдавали дань его памяти как славнейшему из английских дворян на рыцарских турнирах.
Куртуазный идеал, в свою очередь, пережил трансформацию в Елизаветинскую эпоху под воздействием Реформации и обострения конфессиональной борьбы, неразрывно связанной с отстаиванием национальной независимости Англии. Панегиристы считают своим долгом подчеркнуть, что Сидни не просто галантный кавалер или «коверный рыцарь, достоинства которого состоят в богатом костюме и искусной болтовне». Он настоящий солдат, патриот и ревностный протестант, т.е. истинно христианский рыцарь, в образе которого гражданские добродетели сосуществуют с религиозной идеей.
Поэты любили представлять Сидни в виде рыцаря-пастуха (в таком наряде он однажды появился на рыцарском турнире, заслужив прозвище «первого рыцаря среди пастушков и первого пастушка среди рыцарей»). Стилистика этого образа может ввести в заблуждение, вызывая ассоциации с жеманными, манерными персонажами пасторальной литературы. Однако анализ елизаветинской аллегорической поэзии, неоплатонической по духу, заставляет искать в нем более глубокий смысл. В сознании самого Сидни, Эдмунда Спенсера и их читателей рыцарь-пастух вызывал аллюзии с добрым Пастырем, Христом, носителем истинной веры. Сидни же в роли рыцаря-пастуха воспринимался как страж английской Аркадии, хранитель мирной страны от врагов-католиков, о чем недвусмысленно пишет Дж. Пил: «Сидни несравненный... который бдил и бодрствовал, чтобы отогнать злобного волка от ворот Элизы».
Искренняя приверженность Сидни протестантизму, его усилия по созданию протестантской лиги в Европе и смелая критика планов англо-французского союза были по достоинству оценены современниками. Ф. Грэвил писал, что его друг сделал основой своей жизни веру, которую исповедовал; главными для него были «не друзья или жена, дети или он сам, превыше всего этого он ценил честь Высшего Творца и службу государыне и стране». Картина его славной смерти во имя этих идеалов логически завершала портрет Сидни-патриота, гражданина и христианского мученика. Эту идею точно выразил друг сэра Филипа, Артур Голдинг: «Он умер, не изнывая от безделья или участвуя в мятеже... и не от того, что коснел в удовольствиях и приятном безделье, но от мужских ран, полученных на службе его государыне, при защите угнетенных, утверждая единственно истинно кафолическую христианскую религию, среди благородных, доблестных и мудрых мужей, в открытом поле, как истинный воин, - славнейшей смертью, которой только и может желать христианский рыцарь».
Печальное повествование о трагической гибели Сидни от раны, полученной при осаде небольшого нидерландского городка Зутфен, занимает особое место в Сидниане. Рассказ о его недолгой карьере военачальника (ему было поручено командовать отрядом в экспедиционном корпусе графа Лейстера) позволяет биографам вернуться к античному канону жизнеописания: в своих мемуарах Фулк Грэвил, очевидно находившийся под впечатлением от Ксенофонта или римских авторов, рисует Сидни мудрым и заботливым полководцем, который проводит в армии разумные преобразования. За неимением более весомых примеров деятельности сэра Филипа в этой области ему приходится ссылаться на то, что тот «воскресил древнюю дисциплину порядка и молчания на марше». В первом в своей жизни сражении у местечка Аксель Сидни, как и положено герою, обращается к солдатам с пламенной речью, которая, по словам хрониста Дж. Стау (не присутствовавшего там), «так настроила и объединила людей, что они мечтали скорее умереть, неся эту службу, чем жить» - пассаж, также, по всей видимости, вдохновленный античными образцами, а не реальными настроениями в английском корпусе Лейстера, где солдаты постоянно роптали на офицеров и из-за неуплаты жалованья.
В роковой день второго - и последнего для Сидни - боя большой отряд испанцев попытался пробиться к осажденному Зутфену, но значительно уступавшим им в численности англичанам удалось рассеять врага. В стычке Сидни показал себя настоящим храбрецом, однако, неосмотрительно приблизившись к крепости, был ранен выстрелом из мушкета в ногу, и верный конь принес его, теряющего сознание от потери крови, в лагерь англичан. Раненый держался мужественно: сильное впечатление на соотечественников, читавших позднее мемуары о его последних днях, произвело то, что страдавший от жажды Сидни отдал предназначавшуюся ему флягу умиравшему рядом простому солдату.
Злосчастной причине его ранения - отсутствию поножей и набедренника - было посвящено немало рассуждений. Особенно интересен рассказ Ф. Грэвила, который не был очевидцем событий, а выступал лишь интерпретатором услышанного от непосредственных свидетелей (однако интерпретатором, претендовавшим на то, что он знает Сидни, как самого себя, и лучше других понимает, что им двигало). В его трактовке, Сидни совершает свои действия, постоянно сверяясь с некой античной моделью поведения: «Памятуя о том, что в древних преданиях... достойнейший человек всегда лучше всех вооружен... он надел полный доспех», однако, заметив, что на его товарище по оружию нет набедренника и поножей, он решил последовать его примеру, желая быть с ним в равном положении (по другой версии - чтобы продемонстрировать таким образом пренебрежение к опасности). Качества, проявленные сэром Филипом в обоих эпизодах, - мудрая предусмотрительность и безрассудная бравада, - хотя и противоречат друг другу, характеризуют его в мемуарах Грэвила как истинного героя и безупречного рыцаря. Заметим, что очевидцы высказывали и более прозаическую версию происшедшего (предполагали, что из-за внезапного нападения испанцев Сидни попросту не успел надеть полную броню), однако она, разумеется, не была принята панегирической литературной традицией.
Повествуя о 16-дневной агонии раненого, у которого началась гангрена, Грэвил рисует его истинным стоиком. Присутствовавших около Сидни друзей, докторов и протестантских теологов он предпочитает именовать «божественными философами», с которыми сэр Филип вел беседы о бессмертии души и взглядах античных авторов на этот предмет. В его палатке звучала музыка, в частности написанная, по преданию, самим Сидни, баллада о ране, полученной в бедро. Друзья и близкие сдерживали слезы, подражая стоицизму умирающего. Воспоминания очевидцев, на которые опирался Грэвил, позволяют говорить и о душевных страданиях Сидни, его страхе и сомнениях относительно своей посмертной судьбы, о его отречении от написанных поэм и чувств к таинственной возлюбленной. Тем не менее философские беседы действительно имели место, как и переписка с другом по поводу нового перевода Платона, и Грэвил предпочитает акцентировать именно эту героико-стоицистскую линию в поведении Сидни. С его легкой руки она стала главенствующей в легенде о первом рыцаре Англии.
Еще один мотив, непременно присутствующий в литературной традиции, посвященной Сидни, - прославление его учености и любви к наукам, выделявших его даже на фоне высокообразованных современников. И в этой сфере он служит образцом дворянству, на чем настаивает Ф. Грэвил: «Многие великолепно образованные джентльмены среди нас не станут отрицать, что они стремятся грести и следовать курсом в его кильватере». Сидни, разумеется, не был большим ученым, но действительно питал серьезный интерес к наукам; в круг его друзей входили известные ученые Джон Ди и Бруно, посвятивший ему трактат «О героическом энтузиазме», французский мыслитель юрист Юбер Ланге, философ-рамист Уильям Темпл и др. По воспоминаниям, «редко в церкви или в публичном собрании он не бывал окружен учеными мужами». Самого Сидни постоянно превозносят как «ученого воина» или «ученого рыцаря». В своем «Пастушеском календаре» Э. Спенсер отзывается о нем как о «джентльмене, достойном любых титулов как в науке, так и в куртуазии».
Ф. Сидни интересовался философией и, хотя его греческий был несовершенен, читал Платона и Аристотеля. Он был приверженцем антиаристотелевской традиции и почитателем рамизма, но сохранял при этом независимость суждений, подмечая слабости и у оппонентов Стагирита, о чем писал Т. Моффет: «Как много заблуждений он подмечал у Аристотеля, какое множество - у Платона, Плотина и других авторов, писавших о естественной философии». Среди достоинств Сидни современники отмечали не только его пиетет перед ученостью древних, но и внимание к современным научным теориям: «...при том что он высоко ценил первых хранителей знания, он не отвергал нового из почтения перед древностью».
Отдельный повод для похвал в адрес Сидни давало его превосходное владение древними и новыми языками - латынью, греческим, итальянским и французским, - обеспечившее ему успех как при английском, так и при иностранных дворах. Французов и итальянцев поражало изящество стиля, которым он изъяснялся, наряду с глубиной суждений и остроумием.
О репутации Сидни как человека высочайшей образованности напоминает в оде, обращенной к его племяннику, Бен Джонсон, давая юноше настоятельный совет учиться, памятуя о том, чье имя он носит и какие надежды будут возлагать на него окружающие.
Еще одна черта, вызывавшая восторженные отзывы о сэре Филипе, - его щедрое меценатство и патронат, качества, особенно ценимые вечно нуждавшимися представителями как «свободных», так и прочих искусств. Несмотря на то что он был небогат, Сидни покровительствовал множеству поэтов, писателей, переводчиков, среди которых были такие известные личности, как У. Кемден, Э. Спенсер, Т. Нэш, Н. Бреттон и др. По словам Грэвила, «не было такого талантливого живописца, умелого инженера, превосходного музыканта или другого искусного мастера выдающейся репутации, который, будучи известен этому славному духу (т.е. Сидни. - О.Д.), не нашел бы в нем искреннего и совершенно бескорыстного друга». Подобно Зефиру, «он вдыхал жизнь повсюду, где веял», «университеты за границей и дома отзывались о нем как о Меценате, посвящали ему свои труды и обсуждали с ним каждое изобретение или приращение знания». Многие литераторы благодарно вспоминали о его поддержке: Э. Спенсер признавался, что «именно Сидни был тем, кто заставил его Музу воспарить над землей», а Томас Нэш воззвал к нему в речи, сокрушаясь, что с уходом Сидни в Англии больше некому пестовать таланты. «Благородный сэр Филип Сидни! Ты был сведущ в том, что приличествует ученому, ты знал, ценой каких страданий, мук и трудов достигается совершенство. И каждый талант ты умел поощрить по-своему, каждому уму - отдать должное, каждому писателю - воздать по заслугам, потому что не было никого более доблестного, остроумного или ученого, чем ты. Но ты упокоился в своей могиле и оставил нам слишком мало наследников своей славы; слишком мало тех, кто ценит сыновей муз и от своих щедрот орошает те распускающиеся, как бутоны, надежды, которые были взлелеяны благодаря твоей щедрости».
Образ Сидни как патрона искусств и наук курьезным образом обыгрывается в поэме под названием «Урания сэра Филипа Сидни» (1637), написанной одним из его прежних преподавателей в Оксфорде - Натаниэлом Бакстером. Последний воображает картину собственной смерти и появления в мире теней, где его встречает дух Сидни, вопрошая, кто он таков. Бакстер ответствует, что «некогда был наставником великого Астрофила», а ныне наг и несчастен, и все его добро составляют посох и греческая свирель. К его радости, Сидни узнает профессора и поручает его заботам Цинтии: «Сестра дражайшая, заботься о моем наставнике, ибо в своем предмете он был неподражаем». Таким образом, даже в Элизиуме Сидни отводится столь привычная для всех роль, которую он играл в жизни, - попечителя и патрона.
Принимая во внимание, с какой тщательностью каждая из добродетелей Ф. Сидни была осмыслена и обыграна в посмертной литературе о нем, нельзя не заметить, что его собственному поэтическому дару она уделяла незаслуженно мало внимания, и если потомки воспринимают его в первую очередь как великого поэта, то его современникам это не представлялось главным. Этому было немало причин. Первая заключалась в том, что круг осведомленных о том, что Сидни пишет стихи, был достаточно узок, хотя, как полагают, упражняться в версификации он начал, по-видимому, еще в университетские годы. Этот круг включал несколько десятков человек: близких друзей, членов поэтического кружка, именовавшегося «Ареопагом» (Э. Дайар, Г. Харви, Ф. Грэвил, Д. Роджерс. Э. Спенсер); родственников: графа Лейстера (эксплуатировавшего его поэтический дар в политических целях), сестру Мэри (графиню Пемброк), королеву и придворных. Для последних, впрочем, его талант, вероятно, представлялся чем-то обычным, поскольку образованные люди его круга непременно упражнялись в стихосложении. Оценить же масштаб дарования Сидни, отличавший его от прочих дилетантов, не представлялось возможным, поскольку ни одно из его произведений не было опубликовано при жизни.
Кроме того, следует принимать во внимание и снисходительное отношение к поэзии, свойственное аристократической среде; она могла рассматриваться лишь как увлечение джентльмена, но отнюдь не как серьезное занятие для него. Сам Сидни, как доказывают современные исследования, весьма тщательно работавший над отделкой своих стихов, был тем не менее склонен изображать их «безделками», скромными плодами случайных досугов. Даже свой трактат «Защита поэзии» он называл забавой или игрушкой, потребовавшей большого расхода чернил, поддерживая в соответствии с модой иллюзию легкости в отношении своих опусов.
В том же ключе, невольно принижая достоинство писательского труда (но не дарования Сидни), говорит о его работах Ф. Грэвил: «Его книги были скорее памфлетами, набросанными, чтобы занять время и развлечь друзей». Разумеется, Сидни восхваляли как поэта, но поначалу это были лишь спорадические упоминания, подобные одной строке в «Поминальной песне Колина Клаута» Э. Спенсера, где только имя Астрофила служит отсылкой к его сонетам. Поэтический дар рассматривается как нечто дополняющее прочие достоинства этой многогранной натуры, чаще всего - его героизм и доблесть. Примеров такого рода множество. Дж. Ветстоун, например, писал:
Вокруг его шлема - лавровый венок,
А рядом с мечом - серебряное перо.
У. Рейли величал Сидни одновременно «Сципионом и Петраркой нашего времени», но в обоих случаях «меч» предшествует «перу», а Сципион отодвигает Петрарку на второй план. При жизни Сидни, пожалуй, лишь С. Джентили указал на поэзию как на главное поприще молодого английского аристократа: «Другие восхищаются в тебе, Филип Сидни, блеском твоего рождения, гениальностью уже в детстве, способностью к любой философии, почетным посольством, предпринятым в молодости, и демонстрацией доблести... во время публичных зрелищ и упражнений верхом... Пусть другие прославляют все эти качества. Я же не только восхищаюсь, но люблю и почитаю тебя за то, что ты уважаешь поэзию настолько, чтобы достичь высот в ней».
С годами, в особенности по мере появления трудов Сидни, несправедливость принижения его литературного таланта осознается все яснее как англичанами, так и иностранными авторами. Понимание истинного масштаба его таланта и вклада в развитие английского языка и поэзии приходит в конце 90-х годов XVI - начале XVII в., что приводит к заметной смене акцентов и в Сидниане. У Р. Дэниэла Сидни представлен уже не как воин, изредка забавляющийся стихами, но как рыцарь от поэзии, воюющий пером с «тираном Севера - великим варварством», которое он впервые обнаружил и выставил на всеобщее обозрение. Он вдохновил на борьбу многих, и теперь уже немало перьев, как копий, сломано в этой борьбе. (Впервые перо ставится впереди меча, а литературное поприще признается главным для Сидни.) Бен Джонсон, горячий защитник поэзии и драмы, развивает эту линию, не только делая поэтический дар главной чертой Сидни, но и вообще отводя поэту абсолютно доминирующее положение в обществе. В поэме, адресованной дочери Сидни, Елизавете, графине Ретленд, он ставит поэта-творца выше земных монархов, ссылаясь на пример ее отца:
Поэты - гораздо более редкие птицы, чем короли,
И это доказал Ваш благороднейший отец,
Ни до, ни после которого не было равного ему
Среди тех, кто припадал к источнику наших муз.
В другой оде из цикла «Подлесок» Джонсон ставит Филипа Сидни в один ряд с величайшими поэтами древности и современности - Гомером, Сафо, Проперцием, Тибуллом, Катулом, Овидием, Петраркой. «Наш великий Сидни» достойно венчает этот список.
Подводя итог, следует отметить, что в качестве совершенного джентльмена и «первого рыцаря» Ф. Сидни являет собой весьма синкретичный идеал, в котором органично переплетены достоинства, характерные для разных этосов и культурных типов. Он воплощает в себе и традиционные христианские, и куртуазные, и гуманистические добродетели. Однако сам по себе подобный сплав достаточно типичен для эпохи Возрождения. По-видимому, над остальными не менее неординарными личностями его поры Сидни возвышало то, что в каждой из ипостасей, в которых он выступал, и на любом поприще ему удавалось достичь абсолюта, некоего логического предела: как образованный джентльмен и утонченный придворный он превзошел всех; как поэту ему не было равных; как рыцарь он сражался в реальной войне и действительно погиб, как христианин - отдал жизнь за веру, мученически пострадав за нее.
Ключевые слова: Филип Сидни,Philip Sidney,критика на творчество Филипа Сидни,критика на произведения Филипа Сидни,скачать критику,скачать бесплатно,английская литература 16 в.,эпоха Возрождения
Аристократ по рождению, выпускник Оксфорда, Сидни питал любовь к наукам, языкам и литературе и стал покровителем поэтов, прежде чем прославился в этом качестве сам.
Готовясь к дипломатическому поприщу, он три года провёл на континенте во Франции, где сблизился с литераторами-протестантами Маро, Дюплесси-Морне, Безой. Пережив в Париже Варфоломеевсвкую ночь, Сидни горел желанием сражаться за дело протестантизма. Но поскольку королева не разделяла его точку зрения, он удалился на время в свои поместья, где неожиданно раскрылся его поэтический талант. Этому способствовали литературные досуги в кружке его сестры Мэри, будущей графини Пэмброк, покровительницы искусств. В сельской тиши Сидни создал цикл лирических сонетов и возвратился ко двору в блеске новой литературной славы, после того как Елизавета милостиво приняла посвящённую ей пастораль «Майская королева». В столице вокруг него сплотился кружок поэтов, названный Ареопагом, включавший Г. Харви, Э. Спенсера, Ф. Гревила и Э. Дайара. Отныне Сидни сделался в глазах современников английским воплощением совершенного придворного, сочетая аристократизм, образованность, доблесть и поэтический дар. Отправившись воевать за дело протестантизма в Нидерланды, он был смертельно ранен и, умирая, совершил благородный жест - уступил принесённую ему флягу с водой истекавшему кровью простому солдату. Тело его перевезли в Англию и с королевскими почестями похоронили в соборе Св. Павла. Трагическая гибель протестантского героя сделала его английской национальной легендой. и в течение многих лет сэр Филип оставался самым популярным поэтом в Англии. Он же стал первым из поэтов елизаветинской эпохи, чьи стихи перевели на другие европейские языки.
Сидни был новатором в поэзии и в теории литературы. При том, что устоявшаяся форма сонета была излюбленной и чрезвычайно распространённой в Европе в XVI в., он не стал подражать итальянским или испанским образцам, как многие эпигоны, «мешавшие мёртвого Петрарки стон певучий» с «треском выспренных речей», хотя Сидни искренне почитал Петрарку и перевёл на английский многое из итальянской и испанской лирической поэзии. Он создал цикл из 108 сонетов «Астрофил и Стелла», оригинальность которого состояла в объединении этих поэтических миниатюр общим замыслом в эпопею, подлинную «трагикомедию любви» с её надеждами и обольщениями, ревностью и разочарованиями, борьбой добродетели и страсти. Финал цикла печален: лирический герой остался невознаграждённым за свою любовь и преданность, и в то же время оптимистичен, ибо муки и испытания указали ему путь к нравственному совершенству. Любовь открыла истинную красоту и отныне будет служить поддержкой в горестях и давать силы для новых подвигов, в том числе на гражданском поприще.
Поэт экспериментировал с включением диалога в сонеты, что делало его героев необыкновенно яркими живыми персонажами. В то же время его стихи полны неожиданных для читателя парадоксальных умозаключений и юмора. С лёгкой руки Сидни тонкая ирония стала характерной чертой английской лирики.
Отдавая должное и другим формам поэзии - элегиям, балладам, одам, героическому и сатирическому стиху, после Сидни английские поэты предпочитали сонет всем остальным. Э.Спенсер, Д.Дэвис оставили сотни миниатюрных шедевров, заключённых в неизменных 14 строчках.
Ф. Сидни выступил как серьёзный теоретик литературы и искусства в трактате «Защита поэзии» - эстетическом манифесте его кружка, написанном в ответ на пуританские памфлеты, осуждающие «легкомысленную поэзию». Он проникнут гуманистическими размышлениями о высоком предназначении литературы, воспитывающей нравственную личность и помогающей достичь духовного совершенства, которое невозможно без сознательных усилий самих людей. По мнению автора, цель всех наук, равно как и творчества заключается в «познании сущности человека, этической и политической, с последующим воздействием на него». С юмором и полемическим задором, опираясь на «Поэтику» Аристотеля, а также примеры из античной истории, философии и литературы, Сидни доказывал, что для пропаганды высоких нравственных идеалов поэт более пригоден, чем философ-моралист или историк с их скучной проповедью и назидательностью. Он же благодаря безграничной фантазии может свободно живописать перед аудиторией образ идеального человека. Поэт в его глазах вырастал в соавтора и даже соперника Природы: все остальные подмечают её закономерности, и «лишь поэт … создаёт в сущности другую природу, … то, что лучше порождённого Природой или никогда не существовало…»
Мысли Сидни о предназначении поэзии были восприняты лучшими литераторами той поры - Э.Спенсером, У.Шекспиром, Б.Джонсоном. Он заложил традицию, определившую лицо литературы в эпоху королевы Елизаветы, творимой поэтами-интеллектуалами, одержимыми высокими этическими идеалами, но чуждыми обывательскому морализаторству.
Ф. Сидни и его протеже Э. Спенсер стали зачинателями английской пасторали. В 1590 г. был опубликован незавершённый роман Сидни «Аркадия», в котором вольно чередовались проза и стихи, повествующий о захватывающих приключениях двух влюблённых принцев в благословенном краю, идиллическое описание которого воскрешало образ античной Аркадии, но в то же время в нём угадывается пейзаж родной поэту Англии.
Удивительная история уже несколько веков происходит с Филипом Сидни (1554 - 1586), англичанином эпохи Возрождения, которого прозвали английским Сципионом, Цицероном и Петраркой в одном лице, а также самым обаятельным джентльменом своего времени. Отчасти это связано с непрекращающимися поисками персонажа, который мог бы заменить Уильяма Шекспира в качестве великого драматурга и который более соответствовал бы вкусу того или иного шекспироведа более поздних времен. Отчасти - со всякими версиями происхождения протестантского лидера Филипа Сидни, рождающимися в умах людей, которым мало правды невероятно насыщенной жизни дипломата, воина, литератора, философа, основателя общества "Ареопагус", объединившего прогрессивных светских и религиозных мыслителей и поэтов, которые были весьма озабочены "идеологической надстройкой" над еще только начавшим складываться социальным базисом. А так как есть неопровержимые доказательства того, что Сидни сам сделал все, что сделал, и написал все, что написал, то тут особенно не развернуться с "эпохальными открытиями", отчего время от времени появляются любители покопаться в его семейных отношениях, и, видимо, "недовольные" неаристократическим происхождением его отца, верного слуги королевы Елизаветы I, назначают ему в матери Елизавету I, а в отцы, чаще всего, Филиппа II. И не стоило бы об этом упоминать (например, сохранились портреты братьев и сестры (1) - семейное сходство налицо), если бы подобные "откровения" не занимали - и все более уверенно - место на полках в книжных магазинах, достойных лучшей доли.
На мой взгляд, люди, чьи творения дожили до наших дней, сами в той или иной форме очень много рассказали о себе, чтобы стоило тревожить их домыслами, иногда на редкость нелепыми. Там, где все прозрачно, не нужно воротить камни на камни, совершая бесполезный труд, ведь реальность, как правило, оказывается намного интереснее вымысла, в чем мы и попробуем убедить читателей-современников. Необходимо оставить в стороне фантазии, не подкрепленные фактами, и, обратившись к историко-биографической традиции в русском литературоведении, "осознать биографию, - как писал Ю. Н. Тынянов в письме от 5 марта 1929 года к В. Б. Шкловскому, - чтобы она впряглась в историю литературы, а не бежала, как жеребенок, рядом. "Люди" в литературе - это циклизация вокруг имени; и применение приемов на других отраслях, проба их, прежде чем пустить в литературу; и нет "единства" и "цельности", а есть система отношений к разным деятельностям, причем изменение одного типа отношений, напр. в области полит[ической] деятельности, может быть комбинаторно связано с другим типом, скажем, отношением к языку или литературе... Вообще, личность не резервуар с эманациями в виде литературы и т. п., а поперечный разрез деятельностей, с комбинаторной эволюцией рядов" (2).
Филип Сидни родился 30 ноября 1554 года и, прожив всего тридцать два года, навсегда остался в истории Англии не только как дипломат и военачальник, но и как трижды новатор национальной литературы - в поэзии, прозе и теории литературы. Самый очаровательный джентльмен своего времени, автор известного афоризма: "Я не геральдист, чтобы исследовать родословную людей, для меня достаточно, если я знаю их достоинства" (3), - со стороны матери принадлежал к высшей английской знати, к роду Дадли, однако со стороны отца, сэра Генри, не мог похвастаться тем же, так как сэр Генри лишь в 1550 году был за личные заслуги посвящен в рыцари королем Эдуардом VI (4), протектором при котором с 1549 года был Джон Дадли, женивший своего сына на будущей "девятидневной королеве". Крестным отцом Филипа Сидни, старшего племянника сыновей Дадли и, в частности, того, который стал мужем королевы Джейн и вместе с ней некоторое время был пощажен королевой Марией, был принц Филипп, еще не сделавшийся испанским королем Филиппом II, но уже сочетавшийся браком с королевой Марией и безнадежно ожидавший потомства. Скорее всего, такая честь была оказана благородному семейству из политических соображений, ведь королева Мария совсем не сразу обрела прозвище "Кровавая" и пока еще была заинтересована в имевших влияние сторонниках.
Роберт Дадли, граф Лестер, был фаворитом при Елизавете I, но, кроме того, он и лорд Варвик, дяди Филипа Сидни, занимали при ней высшие государственные посты. За почти десять лет наместничества в Ирландии (1565 - 1571 и 1575 - 1578) Генри Сидни не нажил больших денег, однако его старший сын долго считался завидным наследником бездетного графа Лестера, что обеспечивало ему высокое положение и, наверное, некоторые преимущества даже среди юношей его круга. Во всяком случае, образование он получил отличное в наиболее прогрессивной в свое время Шрюсберской школе, где первым директором был уважаемый ученый Томас Эштон, заложивший в свое детище то гуманистическое содержание, которым оно еще долго выделялось на фоне других учебных заведений. Ученики обучались в Шрюсбери греческому, латинскому, французскому языкам, читали и изучали "Катехизис" Кальвина, сочинения Цезаря, Цицерона, Саллюстия, Горация, Овидия, Теренция, Вергилия.
Мальчики из знатных английских семейств жили при школе и редко виделись с родителями. Однако в семье Сидни связь родителей и детей, насколько известно, не прерывалась, и, обращаясь к своему старшему сыну в письмах, часть которых сохранилась до наших дней, Генри Сидни в одном из них внушал ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЕМУ мальчику нравственные понятия, наверное, простые, но не устаревающие со временем: "Пусть первым побуждением твоего разума будет искренняя молитва всемогущему Богу... Постигай не только чувство и суть читаемого, но и словесное их воплощение, и ты обогатишь свой язык словами и разум мыслями... Пребывай в веселии... Но пусть твое веселие будет лишено грубости и насмешки над окружающими тебя людьми... Самое же главное, никогда не позволяй себе лгать, даже в малости... Учись добронравию. Привыкнув, ты будешь совершать одни добрые дела, хотя бы того и не хотелось тебе, ибо дурные будут тебе неведомы. Помни, мой сын, о благородной крови, которую ты унаследовал от своей матери, и знай, что добродетельная жизнь и добрые дела будут лучшим украшением твоего славного имени" (5). Вот такая была родительская педагогика в 1566 году...
Что касается времени учебы, да и после этого, то сохранились сведения о дружбе, связывавшей Филипа Сидни с поэтом Фулком Гревилем, однокашником и его первым биографом, а также с сестрой Мэри Сидни, в будущем Пемброк, в имении которой он прожил несколько лет и "для развлечения" которой написал "Аркадию". Конечно же, у него были родители, дяди, брат, какое-то детское, юношеское окружение, но что касается личных связей, то даже о жене в период ее взаимоотношений с Сидни известно очень мало, кстати, в отличие от Пенелопы Девере, ставшей героиней цикла сонетов "Астрофил и Стелла". Об учебе Сидни в Оксфорде тоже не сохранилось никаких сведений, разве что он, вероятно, пробыл в университете с 1568 по 1571 год и покинул его из-за эпидемии чумы. Более того, существует версия, что Сидни учился не в Оксфордском, а в Кембриджском университете. Однако точно известно, что в детстве и в юношестве Филип Сидни воспитывался в атмосфере протестантизма, в любви и уважении к великим умам античности.
На май 1572 года приходится одно из важнейших событий в жизни Филипа Сидни, значение которого трудно переоценить в свете всей будущей жизни молодого человека. Королева Елизавета дала ему разрешение на двухгодичное путешествие на континент для усовершенствования в языках. Однако вместо двух лет путешествие затянулось на три года, и Филип Сидни вернулся в Англию лишь в 1575 году. Его предусмотрительно снабдили рекомендательным письмом к английскому послу во Франции, и первым делом юноша отправился в Париж, где прожил три месяца и стал свидетелем трагических событий Варфоломеевской ночи. Кровавая расправа, учиненная католиками над гугенотами, навсегда оставила глубокий след в сознании юного протестанта, окончательно утвердив его в антикатолических настроениях.
Покинув Францию, Филип Сидни живет в Германии, Италии, где, по некоторым сведениям, у него была встреча с великим Торквато Тассо, в Венгрии и Польше. Сидни отлично владеет французским языком, латынью, а также итальянским и испанским языками. Итак, одна цель достигнута, но вряд ли она была главной.
Легко предположить, что старшему сыну сэра Генри, племяннику и наследнику лорда Лестера едва ли не с рождения была предопределена карьера дипломата и (или) воина. И, если так, то Филип Сидни не мог не знать об этом и готовил себя к тому, чтобы быть достойным будущего поприща. Во время путешествия он много времени уделял встречам с государственными деятелями, изучал политическую, экономическую и религиозную жизнь тех стран, в которых бывал. Кстати, заметим, что политики, военачальники, ученые и представители знати, с которыми Сидни встречался во время своего путешествия, были почти исключительно протестантами.
Когда Филип Сидни в первый раз был во Франкфурте, он познакомился там с французом Юбером Ланге (1518 - 1581) (6), дружескую привязанность к которому сохранил на всю жизнь. Он был французским гугенотом, юристом, так называемым "монархомаком", то есть тираноборцем, выступавшим против абсолютистских теорий, о котором в дальнейшем Филип Сидни писал как о человеке с "верным сердцем, честными руками и правдивым языком" ("Old Arcadia"). Видный деятель европейского протестантизма, пятидесятишестилетний Ланге нашел в восемнадцатилетнем мальчике верного соратника, правильно оценил его таланты и до самой своей смерти оставался ему преданным другом и советчиком. Не исключено, что протестантское окружение Филипа во время этого путешествия на континент и его дальнейшие попытки укрепить идеи протестантизма в Европе в немалой степени зависели не только от воспитания в семье и школе, от пережитой им в Париже Варфоломеевской ночи, но и от влияния на юношу старшего друга. Во всяком случае "тираноборческие теории" (7), глубоко исследованные французами, никак не могли остаться необговоренными в беседах Юбера Ланге и Филипа Сидни, что очевидно и из поведения молодого придворного, когда он вернулся в Англию, и из его сочинений, когда королева отослала его от двора в имение сестры, и из его военного опыта в Нидерландах, куда он отправился не только по приказу Елизаветы I, но и по велению сердца.
Небезынтересно отметить, что до нашего времени дошли свидетельства о встречах Филипа Сидни во время его путешествия (1572 - 1575) со многими людьми, которые могли бы стать ему полезными на королевской, в первую очередь дипломатической, службе, однако нет ни единого достоверного подтверждения ни о его знакомстве с европейскими литераторами, ни о его интересе к современно европейской литературе, более того, не сохранилось ни одного упоминания о Сидни этого времени как о любителе поэзии. В его письмах ни строчки о литературе, да и для красоты слога он не пользуется поэтическими цитатами, в отличие, например, от того же Ланге, который от случая к случаю приводит строки из стихотворений Петрарки. Правда, нельзя отрицать и того, что все образованные люди - современники Сидни - отлично разбирались в литературе и умели сочинять ямбом и в рифму. Ну, а цитаты... Скорее всего, Филип Сидни был настолько нацелен на другой жизненный путь, что не нуждался в поэзии для изложения своих мыслей.
В июне 1575 года вернувшись в Англию после довольно успешного путешествия, честолюбивый Филип Сидни, наверняка, рассчитывал на важные дипломатические поручения, поскольку значительной войны, на которой он мог бы проявить себя, не предвиделось. Как известно, королева Англии не любила воевать. Однако благосклонно принятый при дворе, Филип Сидни поначалу удостоился почетной, правда, неприбыльной должности королевского виночерпия. Исполнение этой должности, по-видимому, не требовало от Филипа Сидни постоянного присутствия при дворе, потому что он подолгу живет у отца в Ирландии. И в эти же месяцы происходит духовное сближение Филипа с сестрой Мэри (1561 - 1621), будущей графиней Пемброук и покровительницей поэтов, которую считали одной их самых образованных женщин своей эпохи. Предполагается, что брат и сестра неутомимо читали в оригинале и в переводе на английский язык греческие, латинские, итальянские и испанские книги. Интерес Филипа Сидни к литературе явно становится серьезнее не только в познавательном смысле, но и в творческом. Во всяком случае, в 1577 году немецкий поэт Мелисс (1539 - 1602), который встречался с Сидни в Гейдельберге, пишет о нем как о поэте, и это первое упоминание такого рода об англичанине Филипе Сидни.
В 1576 году умер император Священной римской империи Максимилиан II (1527 - 1576), и в феврале 1577 года королева назначила Филипа Сидни послом к его наследнику Рудольфу II (1552 - 1612), поручив передать новому императору свои соболезнования по случаю недавней кончины его отца. Одновременно королева поручила Сидни собрать сведения о том, что думают на континенте по поводу всеевропейской протестантской лиги, которая могла бы противостоять католикам. Стоит заметить, что Рудольф II отличался от своих предшественников, так как воспитывался при испанском дворе, откуда вынес ненависть к "ереси" и почти абсолютное послушание иезуитам. И если он не сыграл сколько-нибудь значительную роль в религиозно-политической жизни подвластной ему территории, то, насколько известно, лишь потому что любовь к науке и искусству у него преобладала над всем остальным. Тем не менее, положение в Европе было неспокойным, нараставшее противостояние католиков и протестантов, жаждавших не только религиозной, но и вместе с ней политической независимости, становилось все более опасным, так как, в первую очередь, Филиппу II уже не очень-то хватало сил поддерживать папскую власть и осуществлять собственную в чужих странах. В связи с этим Елизавете I было необходимо правильно оценить силы противоборствующих сторон и из многих вариантов решений принять единственно верное во благо Англии. Сидни же, считая войну с католической Испанией неизбежной и необходимой, с согласия лорда Лестера предпринял активные переговоры, скорее всего, пойдя дальше наказов королевы, которая, как показало время, всеми силами оттягивала момент непосредственного военного столкновения. С этого времени известность Филипа Сидни как протестантского лидера стала укрепляться и на его родине, и за ее рубежами. Тем не менее, расценив, по всей видимости, посольство Филипа Сидни как неудачное, его протестантские устремления как слишком агрессивные, а поведение как непозволительно амбициозное, королева отстранила молодого придворного, мечтавшего "о подвигах и славе", от дипломатической деятельности на целых восемь лет, не подозревая о том, какой бесценный подарок она делает английской словесности. Проходили год за годом, а Сидни не удостаивали ни одним официальным поручением, и нетрудно представить, как оскорблен, обижен, угнетен он был, иначе мы не читали бы в его письме от 1578 года, адресованного Ланге, горькие жалобы на то, что его ум начинает "терять силу, слабеть от отсутствия сопротивления, ибо к чему еще стоит прилагать усилия и мысли, как не к делу, которое должно служить всеобщей пользе, на что в наш продажный век мы не смеем и надеяться" (8).
Отстраненный от того вида деятельности, который идеалист (судя по письму) Сидни, наверняка, считал своим призванием, он все же не оставлял попыток каким-то образом добиться расположения королевы ради реализации не забытых им планов создания Всеевропейской протестантской лиги во главе с Елизаветой, то есть объединения европейских стран против католической Испании, которую он считает главным врагом протестантов в частности и независимых протестантских государств в целом.
И тогда он берется за перо.
Первое сочинение Филипа Сидни было политическим. Королева Елизавета выразила недовольство мягкостью Генри Сидни, осуществлявшего правление в Ирландии от ее имени, и осенью 1577 года Филип Сидни написал "Рассуждение об ирландских делах" (к сожалению, утраченное), в котором, как известно из исторических источников, вполне оправданно по смыслу и красноречиво по форме поддержал мирную политику своего отца, которая не очень быстро, но приносила нужные плоды, в отличие от любой попытки силой воздействовать на непокорный народ (9). Через год, то есть осенью 1578 года Филип Сидни развлекает королеву пасторалью собственного сочинения под названием "Королева мая" (10), что пока еще не говорит о серьезности его литературных занятий, ибо подобное сочинительство было в моде у английской знати. Кстати, в том же 1578 году поэт Габриэль Харви (1545? - 1630) издал том стихотворений для подношения королеве, авторами которого стали самые могущественные люди Англии. И среди них двадцатитрехлетний Филип Сидни. Вряд ли и эта публикация говорит о поэтических амбициях Филипа Сидни, хотя для нас эта книжка примечательна тем, что в ней впервые напечатаны его стихотворения. Габриэль Харви, скорее всего, выразил то почтительное отношение к племяннику лорда Лестера, которое установилось при дворе после его возвращения из второго путешествия на континент.
В 1579 году Филип Сидни предпринял еще одну попытку вмешаться в планы королевы, которая в то время разыгрывала фарс помолвки с герцогом Анжуйским, католиком по вероисповеданию. По совету графа Лестера он написал королеве письмо, в котором убеждал ее отказаться от брака с католиком. И если за дерзкую попытку давать непрошеные советы по тому же поводу некоему низкородному Вильяму Стаббсу отрубили руку, но для высокородного Филипа Сидни никаких видимых неприятностей не последовало. Более того, в ноябре он участвовал в турнире в честь годовщины коронования Елизаветы, а на Новый год, как обычно, обменялся с ней подарками, оставаясь по-прежнему одним из самых близких к трону людей.
Однако мечты оставались мечтами, надежды на военную или политическую карьеру таяли, а там и граф Лестер, женившись, произвел на свет прямого наследника своего состояния, заметно ухудшив положение племянника в придворной иерархии. За неимением официальных должностей, если не считать должность виночерпия, предоставленный самому себе, Филип Сидни в "свои самые (по его собственному выражению) беззаботные годы" обращается к литературе и, очень быстро пройдя путь от подмастерья до мастера, за пять - шесть лет, то есть между 1578 и 1585 годами, создает три произведения, которые стали новаторскими, первопроходческими в новой английской литературе эпохи Возрождения. Совершенно справедливо писал Уильям Ринглер в предисловии к полному собранию поэтических произведений Филипа Сидни о той мотивации, которая всегда руководила талантами автора: "Когда Сидни, отойдя от политики, занялся поэзией, он остался противником привычного положения вещей. Не имея возможности бороться против врагов своей религии за пределами родины, он повел решительную кампанию против литературной отсталости своих соотечественников" (11). Роман "Новая Аркадия", цикл сонетов "Астрофил и Стелла", эстетический трактат "Защита поэзии" (12) были впервые опубликованы после гибели автора, однако они много раз переписывались, были широко распространены среди читающей публики и самым решительным образом повлияли на тогдашний литературный процесс в Англии.
В эти годы, так называемые "самые беззаботные годы", когда Филип Сидни совершил как будто невозможное, создав, помимо прочих, три своих главных произведения, имеющих далеко не только историческое значение, он также принимал участие в работе Парламента, помогал отцу в его трудах, сражался на рыцарских турнирах, оказывал гостеприимство знатным политическим изгнанникам из католической Испании. Насколько известно, на 1583 год приходится его знакомство с Джордано Бруно, посвятившим ему свои труды. И на начало 1580-х годов приходится очень непростая любовная история в жизни него самого, которая, во-первых, почти не вызывает сомнений в своей подлинности и сохранилась в веках как одна из самых известных любовных историй всех времен и народов, а, во-вторых, стала поводом для написания цикла сонетов "Астрофил и Стелла". Речь идет о взаимоотношениях Филипа Сидни и Пенелопы Девере (Деверекс), которые были, с большой степенью достоверностью, прототипами Астрофила и черноглазой Стеллы, то есть Влюбленного в Звезду и Звезды. В 1576 году в Ирландии скончался лорд Эссекс, отец Пенелопы, и за четыре дня до смерти он выразил желание, чтобы его дочь, которой в ту пору исполнилось тринадцать лет, стала женой Филипа Сидни. Однако ближайшие родичи, да и сам Филип Сидни вряд ли с удовольствием восприняли эту весть, поскольку единственный наследник двух бездетных, богатых и высокопоставленных дядей мог рассчитывать на лучшую партию. Но через два года лорд Лестер втайне от королевы женился на вдове графа Эссекса, то есть матери Пенелопы, вследствие чего впал в немилость, а с рождением кузена, который, правда, прожил недолго, Филип Сидни утратил виды на наследство. Не сохранилось ни единого свидетельства, что Филип Сидни хоть раз виделся с Пенелопой до ноября 1581 года, когда она стала женой лорда Рича, так что их реальные встречи могли иметь место лишь в 1581 и 1582 годах, ибо сонетный цикл был написан скорее всего, как считают английские исследователи творчества поэта, летом 1582 года в Уэльсе, где в это время находился его отец. Несмотря на прямые указания на достоверность описанных Сидни событий и персонажей, цикл сонетов не является точным воссозданием того, что было на самом деле, а является тесным сплетением реальности и вымысла, так как, по утверждению самого Сидни, поэзия творит только то, что должно или могло бы быть, ибо "Поэтом движет Идея... от воображения зависит совершенство творимого им" (13). Идея же цикла такова: в противоборстве любви и страсти побеждает нравственно возвышающая, и потому истинная, любовь.
Как Королева, отошли мой разум,
Пусть он, тебе покорствуя, сполна
Сработает все, что обязан, разом:
Позор слуги - Хозяина вина.
Не дай глупцам себя во мне хулить
И "Вот любовь!" с презреньем говорить.
(Сонет 107, перевод Л. Тёмина)
Проведя Астрофила нелегкой дорогой внутренней борьбы к нравственному совершенству, Сидни возлагал на него задачу повести по ней и других (14). Немаловажное значение для английской сонетной, да и вообще лирической поэзии, имел образ Пенелопы, предшественницы великолепных женских персонажей (в частности, и шекспировского тоже), живой, суетной, противоречивой, но для которой долг все же оказывается превыше любви. А на самом деле реальная и незаурядная Пенелопа Рич (правда, уже после смерти Сидни) заимела любовника, бросила мужа, помогала брату в Лондонском восстании против королевы, то есть вовсе не была символом "торжества" нравственного долга.
Некоторое время спустя Филип Сидни женился на Френсис Уолсингем, дочери государственного секретаря в правительстве королевы, и в 1585 году у них родилась дочь Елизавета, получившая имя в честь королевы Елизаветы. В дальнейшем вдова Филипа Сидни стала женой графа Эссекса, брата Пенелопы Рич. А Елизавета Сидни - женой графа Ретленда, которым некоторые исследователи приписывают авторство шекспировских творений.
В 1585 году литературный период в жизни Филипа Сидни закончился и закончился, как начался, в силу внешних обстоятельств. В этом году он наконец-то дождался того, чего так долго ждал и на что, несмотря на всякие препятствия и собственные высказывания, не переставал надеяться. В ноябре 1585 года королева Елизавета выразила желание послать Филипа Сидни во главе английских войск в Нидерланды, где герцог Оранский вел борьбу против испанского владычества. На континенте Сидни пробыл всего восемь месяцев, но, судя по воспоминаниям современников, умом и смелостью заслужил любовь всех, с кем сводила его судьба. В бою возле города Зутфен он был ранен и, мужественно снося боль, скончался 17 октября 1586 года. Его тело было перевезено в Англию и с воинскими почестями похоронено в соборе Святого Павла.
Эпоха Возрождения, или Ренессанса, приходится в Европе на XIV - начало XVII столетия. В это время величайших социальных перемен формировались современные европейские нации, а также рождалась новая литература, отражавшая гибель старых феодальных отношений и появление новых, буржуазных. Освобождение от гнета религиозных догм, проникновение гуманистических идей в духовную жизнь Европы утверждали представление о человеке как о "существе активном, связанном множеством сложных отношений с другими людьми, зависящем и от таинственных процессов, происходящих в его теле, и от еще более неведомых тайн его духа, - писал известный литературовед Р. М. Самарин, словно видел перед собой политика и литератора, воина и мыслителя Филипа Сидни. - Новое представление о человеке, развивающемся в борьбе противоречий, которые есть и в нем, и в окружающем его обществе, рождалось вместе с первыми проблесками исторического взгляда на действительность, на общество, вместе с тем чувством перспективы, которое уже намечается у писателей и мыслителей XVI в., вместе с чувством ретроспекции, с попыткой заглянуть в прошлое, чтобы понять настоящее и будущее" (15).
Расцвет английской гуманистической литературы наступил несколько позже, чем в других западноевропейских странах, хотя уже в XIV столетии "отец реализма" (по выражению М. Горького) Джеффри Чосер (1343 - 1400) был знаком с новой итальянской поэзией, в частности с поэзией Франческо Петрарки (16), и творил на подступах к новой эпохе, следуя за итальянскими первопроходцами, которые, "отстаивая право человека на славу... завоевали для человека возможность бессмертия не в потустороннем мире, а в реальном мире истории, политики, культуры" (17).
Хотя последователи Чосера немного сделали для дальнейшего освоения гуманистических идей английской литературой, которая в это время, в сущности, утратила связь с итальянской литературой эпохи Возрождения, XV век по-своему важен для укоренения национального самосознания и, соответственно, для истории литературы, так как стал для Англии периодом накопления классических знаний. Английские юноши, во множестве отправлявшиеся во Флоренцию и Падую изучать греческий язык, вместе со знанием греческой и римской литературы привозили домой эллинистические воззрения, которые таким образом проникали в Англию в первую очередь при посредничестве итальянцев (а также французов и испанцев), уже усвоивших и коренным образом осовременивших эти воззрения, как писал Р. И. Хлодовский о Петрарке: "Лирическое "я" "Книги песен" это не просто влюбившийся Петрарка, а определенный общественный и исторический идеал, который Петрарка противопоставлял аскетическим идеалам средневековья и который... он пытался воплотить не только в своем творчестве, но и в себе самом, в своей личности, в своей частной и общественной жизни. Это было "я" "нового человека", своего рода лирическая персонификация гуманистического индивидуализма" (18). А в 1474 году в Англии появилось еще и книгопечатание, которое в немалой степени способствовало формированию самостоятельного личного мировоззрения, а также становлению английского национального языка, основное ядро которого было заложено в XVI столетии.
На начало XVI столетия приходится, если так можно выразиться, "прорыв" качественно новой литературы в Англии. Столь же важным, как открытие новых земель и культуры античности, стало для этого времени познание духовной и эмоциональной жизни человека. То, что прежде входило в обязанности единственно священника, теперь было делом еще художника и поэта. "Утопия" Томаса Мора (1478 - 1535), посвященная Эразму Роттердамскому (1469 - 1536), острые, популярные у современников "Книга о Колине Клауте" и "Книга о воробье Филипе", написанные Учеником Эразма - Джоном Скелтоном (1460? - 1528?), а также лирика Томаса Уайета (1503 - 1541) и Генри Говарда, графа Сарри (1517? - 1547) отчетливо обозначили приход нового времени в английскую литературу. Хотелось бы отметить, что и Уайет, и граф Сарри, писавшие лирическую поэзию, успешно расширяли границы сонетного жанра, любимой поэтической формой поэтов эпохи Возрождения во всех странах Европы. Они вкладывали в него не только сердечные радости и страдания, но и политическое содержание, как, например, Генри Говард граф Сарри в сонете "Сарданапал", в котором он подвергает осмеянию Генриха VIII:
В дни мира ассирийский царь пятнал
Державный дух развратом и грехом,
А в пору битв не ратный пыл познал,
Любезный славным душам, а разгром...
(Перевод В. Рогова)
Однако после смерти Уайета и графа Сарри, успешно экспериментировавших с сонетом, неожиданно наступило некоторое затишье в английской поэзии, продолжавшееся, ни много, ни мало, несколько десятилетий, вплоть до последней трети шестнадцатого столетия, то есть до семидесятых годов, когда литературное творчество в Англии начинает набирать невиданные до тех пор темпы и принимает невиданные до тех пор масштабы (19). Однако невиданный прежде интерес к театру и литературе сопровождают гонения на их создателей. За религиозной кампанией пуритан, провозгласивших: "Причина чумы - грех, причина грехов - представления", - стоял класс, главными принципами существования которого становилось отсутствие эмоциональных и каких-либо других связей между людьми, кроме голого расчета. И Филип Сидни "повел борьбу" не только против английского "отставания", но и против тех "новых англичан", которые рассматривали категорию "полезности" как законную причину гонений на театры. В первую очередь позиция Сидни выражена в трактате "Защита поэзии" (20), который стал обоснованием и собственных сочинений Сидни, а также английской гуманистической литературы в целом в качестве первой историко-философско-нормативной поэтики на английском языке, провозгласившим высшее познавательное и воспитательное назначение литературы в новое время. Сидни утверждал, что литература имеет, в отличие от науки, две составляющие - познание и удовольствие, и только ей присуща категория удовольствия, которая необходима для последовательного воплощения ее познавательной сути и достижения ее конечной цели - нравственного совершенствования человека. И еще одно, не менее важное. Не признавая идеалистической концепции природы литературного творчества, Сидни тем не менее не отрицает "божественного происхождения" таланта, или дара, добавляя: "Однако я должен признать, что если самая плодородная почва все же требует обработки, то и ум, устремленный ввысь, должен быть ведом Дедалом. У Дедала, как известно, всего три крыла, которые возносят его к заслуженной славе: Искусство, Подражание и Упражнение" (21).
Нам неизвестно, в какой очередности Сидни создавал свои три великие произведения, однако, открывая цикл сонетов "Астрофил и Стелла", он, насколько возможно для сонета, точно определил задачу английской поэзии, или литературы (в терминологии "Защиты поэзии"), на конец 1570-х гг. и свою задачу как автора этого времени:
Пыл искренней любви я мнил излить стихом,
Чтоб милую развлечь изображеньем бед -
Пускай прочтет, поймет и сжалится потом,
И милость явит мне за жалостью вослед.
Чужие книги я листал за томом том:
Быть может, я мечтал, какой-нибудь поэт,
Мне песнями кропя, как благостным дождем,
Спаленный солнцем мозг, подскажет путь... Но нет!
Мой слог, увы, хромал, от Выдумки далек,
Над Выдумкою бич учения навис,
Постылы были мне сплетенья чуждых строк,
И в муках родовых перо я тщетно грыз,
Не зная, где слова, что вправду хороши...
"Глупец! - был Музы глас. - Глянь в сердце и пиши!"
(Сонет 1, перевод В. Рогова)
Накопленные знания пора было воплощать в собственном творчестве, естественно, учитывая достижения итальянской, французской, испанской и прочих литератур, однако, прилагая их к английскому языку, проверять, во-первых, их необходимость для английской литературы и, во-вторых, возможности английского языка для их реализации.
По крупицам собирая фактический материал из жизни Филипа Сидни, большинство английских исследователей высказывает вполне оправданное предположение, что трактат "Защита поэзии" был написан где-то в период 1579 - 1583 годов, цикл сонетов "Астрофил и Стелла" - вероятно, летом 1582 года, а к написанию "Старой Аркадии" Филип Сидни приступил то ли в 1577 году, то ли в 1580, когда жил в Уилтоне, поместье своей сестры Мэри Пемброук. В начале 1580-х годов (скорее всего, после написания "Защиты поэзии") он принялся ее переделывать и, переписав две с половиной книги из пяти, не закончив свой труд, отправился в Нидерланды, где погиб. Биограф Филипа Сидни, его друг и поэт Фулк Гревиль (1554 - 1628) в 1590 году издал оборванный на полуфразе текст "Новой Аркадии", а в 1593 году, благодаря усилиям Мэри Пемброук, в свет вышли и "Новая Аркадия" и "Старая Аркадия" вместе, то есть к "Новой Аркадии" было присоединено окончание "Старой Аркадии". Спустя тридцать четыре года сэр Уильям Алекзэндр написал и включил в текст вставку, которую поместил после "Новой Аркадии" и перед "Старой Аркадией". В таком виде "Новая-Старая Аркадия", как правило, печатается на родном языке, и в таком виде мы представляем ее нашим читателям (22).
Очевидно, что для содержательной стороны творчества Сидни важным фактором было создание общества "Ареопагус" (23), вероятно, по примеру французской "Плеяды". Габриэль Харви назвал его "Ареопагус". Во главе общества стоял Филип Сидни, его членами были Габриэль Харви, Эдмунд Спенсер (1552? - 1599), Фулк Гревиль, Эдвард Дайер (1543 - 1607), вероятно, некоторые епископы. Судя по названию общества, его члены, сходясь вместе, обсуждали не только поэзию, но также политические и религиозные проблемы, проблемы государственной власти и допустимости восстания против правителя, облеченного королевской властью. Не исключено, что, когда создавалась "Старая Аркадия", этого общества еще не было. Потому и в "безделице", написанной для развлечения сестры, вероятно, еще нет мотивов, присутствующих в "Новой Аркадии", однако и в первом варианте, что признают все английские исследователи, эти прозаические заимствования отнюдь не ученические ни по форме, ни по духу, в отличие от поэтических вставок, которые, судя по разнообразию ритмов и размеров, были призваны не только украсить роман, но и стать экспериментом в английском стихосложении. Филип Сидни написал 286 стихотворений, и в 143 из них разные виды строф и строк, причем 109 встречаются всего один раз, и большинство прежде не было знакомо англичанам. Более того, в поэтическом наследии Сидни нет ни одной исконно английской баллады. "Чужие книги я листал за томом том..." Если из пастушеского романа "Аркадия" (1481 - 1486, опубликован в 1504 г.) итальянца Якопо Саннадзаро (1458 - 1530) Сидни взял место действия, из занимательной "Эфиопики" Гелиодора (III в. н. э.) - довольно неожиданную концовку, в которой судья и осужденный связаны родственными узами, а из испанского романа "Амадис Галльский" (конец XIV - начало XV вв.), из которого эпический элемент уже начал вытесняться аллегорическим и воспитательным, - основную сюжетную линию с переодеваниями, то все эти заимствования так или иначе уже "изменяют своим жанровым ролям" (24). Во-первых, от эпоса даже в первой версии практически ничего не осталось, и "Старая Аркадия" утверждает новый жанр - роман. Во-вторых, это не столько рыцарский роман (сколько любовный, политический, философский, авантюрный роман, с элементами практически всех прозаических жанров СЕГОДНЯШНЕГО дня), так как герои не включены активно в реальную рыцарскую деятельность (в отличие от второй версии), так как пребывают в состоянии влюбленности и жаждут добиться взаимности от своих дам. В-третьих, в комедии с переодеваниями прежде, в отличие от "Старой Аркадии", не участвовали персонажи столь высокого статуса, ибо это подразумевает комедийные положения, невозможные для настоящих рыцарских романов. И так далее... Собственно, уже первый вариант, хоть и написанный, по утверждению Сидни, исключительно для развлечения сестры, представляет собой если не оригинальный текст, то очевидную пародию на существовавшие в Европе жанры. Может быть, и в этом Филип Сидни (последовав примеру Д. Чосера, заимствовавшему сюжет поэмы "Троил и Крессида", или Т. Мэлори, автора романа "Смерть Артура") повлиял на Уильяма Шекспира, который твердо усвоил, что неважно, каков источник оригинального сочинения, главное - это конечный результат. Кстати, это, наверное, единственное, что Филип Сидни унаследовал из традиционного народного творчества с его принципом анонимности, так как во всем остальном, что касается его главных произведений, был убежденным новатором.
Будучи членом "Ареопагуса", в котором участвовали его единомышленники-поэты, Филип Сидни не мог рано или поздно прийти к мысли, что необходимо как-то выразить свои (или общие для всех своих соратников) идеи относительно того, какой должна быть новая английская литература и каким должно быть ее место в духовной жизни страны. Надо сказать, что до Сидни в Англии были написаны две поэтики. Одна принадлежала перу С. Госсона и называлась "Школа ошибок" (1579, была посвящена Филипу Сидни), и в ней автор отвергал поэзию, настаивая на принципе "полезности". Другую написал Томас Лодж, и она под названием "Ответ Госсону" была издана в том же году. В ней Лодж противостоял Госсону с тех же позиций "полезности". И лишь Филип Сидни, принимая во внимание и это тоже, сумел преодолеть узкоклассовые границы протестантской мысли и одновременно утвердить, как уже было сказано, высшее познавательное значение литературы. Поэтому очень важно, как мне кажется, провести границу между ранними работами Филипа Сидни, то есть написанными до "Защиты поэзии", и поздними, в которых он предстает одновременно гениальным литератором, философом нового времени и неутомимым новатором. Точно неизвестно, когда Филип Сидни написал трактат "Защита поэзии". Однако известно, что это было в период 1579 - 1583 годов, и только после его написания он создал цикл сонетов "Астрофил и Стелла", пронизанный идеями его поэтики, а также (неоконченный) роман "Новая Аркадия", который тоже не мог появиться на свет до работы над "Защитой поэзии" и до учреждения общества "Ареопагус".
Сначала о стихах. Все поэтические вставки из первой версии "Аркадии" были сохранены во второй версии, однако, в основном, перемещены в конец "книг", создавая так называемое пасторальное обрамление, и это говорит о том, что Сидни не особенно интересовался своими поэтическими достижениями этих лет, так как им уже был задуман или, не исключено, даже написан сонетный цикл "Астрофил и Стелла", состоящий из ста восьми сонетов и одиннадцати песен. Период "первопроходческого" преобразования отдельных поэтических приемов и жанров в нечто целостно-английское, следуя завету своего старшего современника Роджера Ашама (1515 - 1568): "Об английском предмете писать для англичан и на английском языке" (25). Скорее всего, стихи из "Старой Аркадии" так же, как стихи из цикла "Некоторые сонеты", исчерпали новаторский интерес Сидни, убедив его в том, что английский язык пригоден практически для всех жанров европейской поэзии. Кстати заметим, что почти половина всех написанных Сидни стихотворений - сонеты, которых насчитывается тридцать три различных вида. В первое время, насколько известно, Сидни предпочитал ту форму сонета, которая утвердилась как сонет Сарри, но в дальнейшем стала называться английским или шекспировским сонетом. В этом сонете три, не связанные друг с другом рифмой, катрена и заключительное двустишие. Двадцать из тридцати четырех ранних сонетов написаны именно так. Однако потом самой предпочтительной формой (из ста восьми сонетов цикла "Астрофил и Стелла" таких сонетов шестьдесят) стала форма с рифмовкой типа аббаабба вгвгдд, то есть форма, которую предпочитал Уайет: классическая итальянская октава и сестет с выделенным рифмой двустишием. Чаще всего заключение становится для читателя неожиданным, а иногда и парадоксальным. Например, в сонете 71 в цикле "Астрофил и Стелла" за октавой, прославляющей духовные совершенства Стеллы, следует такой сестет, в котором заключительному двустишию мог бы позавидовать и сам мастер парадокса Оскар Уайльд:
Сама того не зная, может быть,
Ты всех вокруг - и я тому свидетель! -
Умеешь красотой в себя влюбить
И претворить влюбленность в Добродетель.
"Увы, - вздыхает Страсть, голодный нищий, -
Все это так... Но мне б немного пищи!"
(Перевод Л. Тёмина)
Написавший первый полноценный роман в английской истории, главную задачу литературы Филип Сидни видел в ее положительном - с точки зрения нравственности - воздействии на людей, в частности, в таком немаловажном вопросе для эпохи Возрождения, как отношение к любви, который стал поводом и причиной множества философских сочинений во всех странах Европы. В "Защите поэзии" он пишет: "...создание Кира как особенного совершенства может быть доступно и Природе, но только Поэт может показать его миру так, чтобы явилось много подобных Киров, пусть только увидят они воочию, зачем и как создавал его создатель" (26). Он считал необходимым для литератора творить совершенный персонаж, но чтобы читатель поверил в его совершенство, необходимо провести это персонаж по трудному пути совершенствования, как о том вполне определенно сказано автором в "Новой Аркадии": "...хотя дороги дурные, конец путешествия самый приятный и достойный" (кн. 1).
"Новая Аркадия" (пере)насыщена любовными коллизиями. Кажется, нет ни одного, обсуждавшегося в XVI столетии вопроса о любви мужчины к женщине и женщины к мужчине, который не был бы здесь проиллюстрирован. Если судить по начитанности автора, а также по тексту второй версии "Аркадии", в качестве философской основы, на основании которой Сидни строит свою концепцию любви, из многих значительных работ (Гвидо Кавальканти, Франческо Каттани,Туллий Арагон и т.д.) на первый план выдвигаются два сочинения. Первая - это трактат "О придворном" (1516 - 1521) итальянца Бальтассаре Кастильоне (1478 - 1529). В нем автор показывает идеального человека, который, помимо всех прочих достоинств, должен также являть умение любить: "В четвертой книге Кастильоне... рассуждает о природе любви, и хотя он придает высшее значение духовной, идеальной любви, но не обходит и чувственной любви, раскрывает ее психологию, например подробно рассуждает о поцелуях" (27). И вторая - это диалог "Раверта" (1554) итальянца Джузеппе Бетусси (1515? - 1573?), в котором полностью переосмысливается неоплатоническая традиция (28) и на первый план выходит психология земной, человеческой любви со множеством вопросов, остающимися неразрешимыми до нашего времени. Кто любит сильнее и постояннее - женщина или мужчина? Что труднее - завоевать любовь или сохранить ее? Что такое ревность? Может ли любовь видоизменяться? Что такое диалектика любви? И так далее... Вывод очевиден. "Философская традиция (у Бетусси) смыкается с практическими вопросами жизни, с вопросами морали и нравственности. И это было как раз то новое, что легло в основу философской и литературной традиции Нового времени..." - пишет В. П. Шестаков в статье "Философия любви и красоты эпохи Возрождения" (29). Более того, считая ренессансную историю любви одной из важнейших традиций европейской культуры, он утверждает, что "она пронизывает собой искусство, литературу, философию, этику и эстетику. Вот почему знакомство с концепциями любви эпохи Возрождения помогает понять многое в характере европейской культуры..." (30) Первым в Англии показав практически все версии любовных взаимоотношений мужчины и женщины, Филип Сидни особое внимание все же уделил любви двух главных персонажей, принцев Музидора и Пирокла, творя из них, по выражению Дю Белле, "говорящие картины Поэзии" и проводя их по тяжелому пути нравственного совершенствования, в конце которого ему виделось не столько райское блаженство, сколько плодотворная деятельность на благо человечества.
Тем не менее, пусть остальные эпизоды счастливой и несчастливой любви в "Новой Аркадии" в основном фоновые, они представляют собой красочное многообразие любовных картин, которые не только оттеняют две основные любовные линии в романе, но и служат своеобразной и, что невозможно не подчеркнуть еще раз, первой в Англии "энциклопедией" ренессансных представлений о любви. Кстати, в этом Сидни тоже развивает европейскую традицию, так как далеко не всегда трактаты о любви были научными трактатами, превращаясь усилиями некоторых авторов в настоящие художественные произведения, например, "О придворном" Бальтассаре Кастильоне.
Тебя ищу, любовь, бегу тебя.
Огнем горю, тушу пожар чужой.
Что осуждаю, то же и творю:
("Новая Аркадия", перевод Л. Володарской)
Вскоре после Варфоломеевской ночи, которую Филип Сидни пережил в Париже и которая буквально потрясла его, вышел в свет тираноборческий трактат "Иск к тиранам" (сначала на латыни, потом в 1574 году в переводе на французский язык как "Иск к тиранам или о законном могуществе государя по отношению к подданным и подданных в отношении государя"), и хотя он был опубликован под псевдонимом, однако установлено, что подписанный именем римского республиканца Юния Брута, он был сочинением Ф. Дюплесси-Морнэ и Юбера Ланге, дружеская, менторская близость которого к Сидни известна всем исследователям жизни и творчества английского гуманиста. В трактате утверждается, что (1) восстание любого человека против тирана, не имеющего законного права на престол, справедливо и оправданно, ибо этот тиран пытается уничтожить установленный порядок правления, а также (2) если законный правитель "намеренно разрушает благосостояние подданных, если он бесцеремонно противодействует официальному делопроизводству и законам... если он преследует своих подданных как врагов" (31). Это значит, что правитель не просто "не очень хороший" и уже много раз пытались увещевать, прежде чем занимающие высокие государственные посты аристократы могут призвать к восстанию, чего ни под каким предлогом не может сделать простой человек, которому в случае поражения остается лишь уповать на бога или бежать из страны. Заметим, что подобного рода сочинения англичан, например, близких к "Ареопагусу" Кристофера Гудмана и Джорджа Мучанана, а также епископа Понета, гораздо радикальнее французского трактата, во всяком случае, они все считали, что простой народ имеет право выступать против тирана, и ни один не поддерживал "правильный порядок восстания" (32). Что касается Филипа Сидни, то, какое бы значение он ни придавал теоретическим сочинениям англичан, он полностью поддерживал концепцию восстания французских гугенотов, как пишет Мартин Бергбуш: "Несомненно, что когда он писал о восстании в "Новой Аркадии", его более интересовали события на континенте, чем ситуация в Англии, потому что для Сидни, как и для более ортодоксальных политиков, восстание против их умной, прилежной и в высшей степени верной Протестантству королевы было немыслимо" (33). Отчасти это так и есть, судя по тому, что известно о Филипе Сидни. Но ведь в юношеские лета он не смолчал и подал королеве совет. Так почему даже при не обсуждаемой верности королеве Елизавете его не должны были интересовать события в Британии? Не исключено, что Филип Сидни мог иметь в виду не только события на континенте, но и продолжавшееся много лет противостояние Марии Шотландской (1542 - 1587) и Елизаветы Английской, и право на престол самой Елизаветы, и бесконечные попытки восстания в Ирландии, и многое другое из бурлящей событиями жизни Британии XVI столетия, что отнюдь не сказывалось отрицательно на его верности королеве, наоборот, подвигало на защиту ее прав (как потом Уильяма Шекспира в "Хрониках"). Может быть, его просто пугал "бунт, бессмысленный и беспощадный", как два с половиной века спустя будет пугать другого поэта, тоже прошедшего путем первооткрывателя, но в русской литературе?
В "Новой Аркадии" описаны пять восстаний, в которые вовлечены Пирокл и Музидор. В трех, в Лаконии, Понте и Фригии, они помогают угнетенному населению, а в двух других, в Аркадии, защищают монарха. По всему ясно, что автор одобрительно относится к восстаниям в Лаконии, Понте и Фригии и неодобрительно - к восстаниям в Аркадии, причем первые три восстания подняты против "совершенно плохого" (по определению М. Бергбуша) монарха, во главе восстаний стоят представители знати, которые в состоянии обуздать несдержанность народа и приучить его к дисциплине, необходимой для победы. Да и участие иностранцев не является противоречием, конечно, если они действуют не из эгоистических побуждений. Таким образом в "Новой Аркадии" Сидни полностью солидарен с концепцией восстания, предложенной его учителем Юбером Ланге, выказывая такое отношение к народу, якобы неспособному действовать с достоинством без вождей-аристократов, которое идет вразрез с мнением, высказанным в своих сочинениях англичанами Понетом, Гудманом и Бучананом, так как они не считали единственным долгом народа подчиняться власти. Что касается двух восстаний в Аркадии против царя Базилия, то очевидно, что ни более радикальные англичане, ни более осторожные французы никак не могли их одобрить, во-первых, потому что царь Базилий не был тираном, да и его не очень-то пытались "воспитывать", и, во-вторых, потому что причины, приведшие к обоим восстаниям, были самые что ни на есть эгоистические.
Один из известнейших исследователей европейской истории культуры П. М. Бицилли писал так: "Средневековье противопоставляло миру природы не мир культуры как творческой деятельности человека, но мир надприродный, сверхприродный, раз навсегда данный, - Бога, к которому человечество приобщается путем созерцания. Искупление, в смысле освобождения из-под стихийной власти слепого, природного закона, мыслилось средневековьем возможным только путем ухода от "мира", бегства от природы, смерти, но (в отличие от Возрождения - Л. В.) не путем творческого преодоления природы, утверждения своей самозаконности и подчинения природы этой последней" (34). Более того, именно "в эпоху Ворождения резко меняется отношение человека к миру. Из объекта он обращается в субъект, из "поприща" - в актера, из "олицетворения" - в лицо" (35). Вот так, преодолев рубеж между Средневековьем и Возрождением, один из величайших гуманистов Филип Сидни, используя опыт, накопленный европейской литературой, первым прошел по английскому литературному "бездорожью", прокладывая путь для Эдмунда Спенсера, Уильяма Шекспира, Джона Донна, Джона Мильтона и многих-многих других. Написанная якобы для развлечения сестры "безделица", то есть "Аркадия", по сегодняшний день обвиняемая зарубежными исследователями во многих грехах, в частности в грехе неоригинальности, на самом деле является откровенной МИСТИФИКАЦИЕЙ, которой автор не только подвел черту под средневековым эпосом и положил начало новому виду повествовательной литературы, то есть роману, но и внутри романа заложил основу для множества разных прозаических жанров, появившихся в относительно близком и далеком будущем.
Остается один вопрос, который, наверняка, возникает у любого читателя как романа Филиппа Сидни, так и этой статьи: почему три величайших произведения английского автора оказались востребованными в России лишь во второй половине ХХ века? Можно предположить элемент случайности. Кто-то назвал Шекспира первым английским литератором, и так повелось, тем более что Шекспир в какой-то мере был наследником Сидни (не только в сонетах). Чосер, Мэлори, Сидни, да не только они, надолго остались за бортом русской литературной истории. Шекспир - а потом сразу романтики. Именно романтики, а не философствующий первопроходец, были необходимы в начале XIX века русской поэзии, в которой работали первопроходцы, а так как английские романтики были зависимы от поэтов эпохи Возрождения, то их опыт так или иначе проникал на русскую землю. Жаль, конечно. Не исключено, что в ином случае, то есть появись Сидни в поле зрения россиян раньше, Пушкину не пришлось бы так мучительно строить здание русской литературы, а Лермонтову отчаянно искать тем для своих поэтических откровений и жаловаться на их отсутствие…
И последнее. Несколько поэтических переводов из романа "Аркадия", печатающихся впервые:
Ах, внешность изменив и мысли тоже,
Я больше не борюсь, вдвойне в плену,
Остатки сил, о горе мне, итожа,
Предательство свое я не кляну.
Но чьи б глаза удар такой стерпели?
Мой разум пал, не вынеся его.
И нет уже крепчайшей цитадели,
И поле бранное давно твое.
Мои глаза тебе одной лишь рады,
Одной лишь мысли разум знает власть:
У слуг* он в рабстве - радостью объятый,
И я мечтаю пред тобою пасть.
Так что же платьям женским удивляться,
Когда с тобой одной я жажду знаться?
…………………………..
Благодарю тебя, бог Пан,
Что ты сберег мне жизнь мою.
И мне спасибо, что избран
Мной тот, кто победил в бою, -
Ему хвалы поет молва,
Но я удерживал врага.
Коли Луна ласкает взгляд,
Являя нам лик светлый свой,
Тогда сэр Солнце ждет наград,
Ведь он шлет луч ей золотой, -
Что ж, пусть ему поет молва,
Но я удерживал врага.
………………………
Напрасно вы, глаза, затмить хотели
Слезами облик, ускользнувший прочь,
Ведь в сердце вы его запечатлели,
И вижу я, хоть видеть мне невмочь.
Напрасно, сердце, ты, воспламеняясь,
Все ж мнило вздохами унять пожар,
Ведь вздохи, словно в мехи возвращаясь,
Лишь пуще прежнего раздуют жар.
Ты, разум, сердце потерял отныне,
Так не сдавай же голову мою,
Хоть предрекли падение твердыни
Мои глаза, врата открыв врагу;
Хотя борьба моя, увы, напрасна
И странной смерти жизнь моя подвластна.
………………………..
Пусть старость не срамит мои желанья,
Душа святая в смертной плоти есть:
Чем дуб старей, тем ярче полыханье,
А дым о младости кричит нам весть.
Пусть белизна моих волос не станет
В твоих глазах позорящей меня,
Ведь белизна к себе все взгляды манит,
И все они приветствуют тебя.
Мы в старости мудры и справедливы,
Мы в старости не суетимся зря,
Мы в старости по-детски не шкодливы,
Другую честь с годами оценя.
По-своему и старость благоданна
И не срамит высокое желанье.
…………………
О вы, в святилище живых дерев
Нашедшие свой дом, о Божества,
Властители лесов, я, не стерпев,
К вам обращаю горькие слова,
Клянусь вам, Боги, в клятве я тверда:
Я мыслями и чувствами чиста.
Белейший камень, белизна твоя
Что чистый разум мой; ты крепок так,
Как сердце у меня в груди; и я
Тебя беру в посланцы, чтобы всяк
Узнал: что б ни было со мной, о стыд,
Не будет, не был твой закон забыт.
Невинность, выше всех ты в небесах,
Обличье наше - дар бессмертный твой,
Тебе верна я наяву и в снах,
Навечно сердце пленено тобой:
Пока к тебе душой я уношусь,
Невинной жить и умереть клянусь.
……………………….
Желая твердым мыслям вечность дать,
Сей крепкий мрамор выбрали слова,
Но мысли и слова вдруг стали лгать,
Себя и камень не страшась пятнать,
Слова бессильны, мрамор полон сил,
Слов много, мрамор одинок всегда,
Слова черны, хоть не черней чернил,
Природный мрамор не белей белил,
Ах, с мрамором всевечным никогда
Не сладит женская, увы, рука.
…………………………
В любви живу и по любви тоскую,
Любя, я гибну, словно не любя.
В жестокости о милости взыскую,
Тебя ищу, любовь, бегу тебя,
Огнем горю, тушу пожар чужой,
Что осуждаю, то же и творю:
Лежу без сил, страсть прогнала покой,
Мне душно от любви. Уйди, молю.
О, бог слепой, ведь в этом ты виновен,
Мальчишка, хоть тебе уж сотни лет.
Вот так ребенок с птичкой, час неровен,
Возьмет играть, а в ней уж жизни нет.
Тебя, дитя Амур, молю, несчастный:
Мне дай любовь иль не терзай напрасно.
…………………………
Не смерти, а любви опасней сила,
Их стрелы мне знакомы с неких пор:
Но смерть, меня поранив, не убила;
Любовь стреляет мыслию в упор.
От смерти лекарь нас спасет возможно,
От хвори же любовной не сбежать;
Смерть будет тело истязать дотошно,
Любовь же разум счастием пытать.
Ни для кого у смерти нет различий,
Разборчивей любовная стрела!
У смерти милосерднее обычай,
Любовь же и в жестокости мила.
Смерть - избавление, любовь - тюрьма,
Не смерть, любовь вольна казнить сама.
……………………….
Любовь в душе - что красоты печать,
В покров невинности облачена,
Стенаний громких не могла сдержать,
Ведь ныне презираема она.
Вот так. Вот так, чем крепче я люблю,
Тем горше мне неправый приговор,
С тоской приходит злость, как ни терплю,
Та с яростью ведет свой вечный спор.
Чем зло сильней, тем больше дум о том,
Кого я ненавижу, и тогда
О добром вспоминаю я добром,
Любовь опять берет в полон меня.
Где снадобье найти - очистить кровь,
Чтоб гнев не распалял мою любовь.
…………………………
О ночь, ты от забот отдохновенье,
Услада для влюбленных, время страсти,
Ты нам несешь покой в любой напасти,
Дневных мечтаний тихое свершенье.
Что Феб? Златое облаченье?
На блеск его смотря, в его мы власти,
И он земную жизнь лишает сласти,
Ее ввергая в самоуниженье.
Сияющие звезды, сон невинный
И тишина (мать мудрости бессмертных),
Все знают: ночью даже солнце тает.
В пустынной жизни ты - приют единый,
Душа светлее в сумерках заветных,
На сердце рай, да и добра хватает.
_______________________________________________________________________________
- Кстати, о происхождении сестры, Мэри Пемброук, урожденной Сидни, а также о судьбе Елизаветы, дочери Филипа Сидни, тоже время от времени появляются забавные сказки.
- РГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 724.
- Цитируется по книге: Барг М. А. Шекспир и история . М., 1979, с. 162.
- Эдуард VI (1537 - 1553) - король Англии и Ирландии, единственный сын короля Генриха VIII. Его правление отмечено укреплением протестантизма не только по желанию протекторов, но и по его собственному согласию.
- . Edit. By W. Ringler. Oxford, 1962, p. XVII.
- Кстати, это он в 1558 году в письме Кальвину писал о России: "Если суждено какой-либо державе расти, то именно этой".
- Подробнее см.: Эльфонд И.Я. Тираноборцы . Саратов, 1991, С. 79 - 102.
- The Poems of Sir Philip Sidney , p. XXVIII.
- В сонете 30 сонетного цикла "Астрофил и Стелла" Сидни впрямую говорит о преимуществах мирной политики Англии в Ирландии, которой придерживался его отец.
- Название перекликается с названием поэмы "Королева фей" Э.Спенсера.
- The Poems of Sir Philip Sidney , p. XXVIII.
- Цикл сонетов "Астрофил и Стелла" и трактат "Защита поэзии" опубликованы на русском языке в книге: Филип Сидни. . - М.: Наука, Литературные памятники, 1982 г.
- Филип Сидни. Астрофил и Стелла. Защита поэзии . М., 1982, с. 154.
- Подробнее см.: Володарская Л. И. Первый английский цикл сонетов и его автор. В книге: Филип Сидни. Астрофил и Стелла. Защита поэзии . М., 1982; Володарская Л. И. Поэтическое новаторство Филипа Сидни (1554 - 1586). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук . М., 1984.
- Самарин Р. М. ...Этот честный метод... М., 1974, с. 36 - 37.
- Джеффри Чосер упоминает имя Петрарки в "Прологе" и "Рассказе писца" в "Кентерберийских рассказах". Более того, он перевел на английский язык сонет CII Петрарки внутри поэмы "Троил и Крессида" (кн. I, строфы 58 - 60), которая по жанру и содержанию представляет собой совершенно новый образец для английской поэзии.
- Хлодовский Р. И. Петрарка. Эстетическая проблематика ренессансного гуманизма. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук . М., 1975, с. 12.
- Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма . М., 1974, с. 160.
- Для примера: за период 1582 - 1601 гг. в Англии было создано больше двадцати сонетных циклов, отмеченных печатью таланта и оригинальности и дошедших до наших дней.
- Подробнее см.: Володарская Л.И. Первая английская поэтика. В книге: Филип Сидни. Астрофил и Стелла. Защита поэзии . М., 1982, сс. 292 - 304. Володарская Л. И. Поэтическое новаторство Филипа Сижни (1554 - 1586). М., 1984.
- Филип Сидни. Астрофил и Стелла. Защита поэзии . С.201.
- Во второй половине 1920-х годов появилось мнение, что "Старая Аркадия" не принадлежит перу Филипа Сидни, так как является переделкой "Аркадии" Саннадзаро, "Эфиопики" Гелиодора и "Амадиса". У англичан есть, наверное, целая библиотека скрупулезных исследований того, какие заимствования были сделаны Ф. Сидни при создании "Старой Аркадии". Даже у нас в 1980-х годах была защищена диссертация, естественно, компилятивная на эту тему. Однако, на мой взгляд, эта проблема должна интересовать лишь историков литературы и вряд ли интересна читателям, которые сплошь и рядом имеют дело с заимствованиями. Важен результат. То есть насколько оригинален, привлекателен, жизнеспособен конечный результат. Кстати, Уильям Шекспир заимствовал сюжеты из "Аркадии", а свою черноглазую и темноволосую даму - из цикла сонетов "Астрофил и Стелла".
- Ареопагус, ареопаг - орган власти, совет старейшин в Древней Греции. В древней мифологии учредительницей ареопага была Афина.
- Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения . М., 1993, с. 214. Забавно, что автор сначала признает "Аркадию" Филипа Сидни, по сути, написанной не им, а потом столь же уверенно признает, что Филип Сидни полностью видоизменил заимствования, преследуя собственные цели.
- Цитируется по книге: Saintsbury D. The Earlier Renaissance . L., 1901, p. 260.
- Филип Сидни. Астрофил и Стелла. Защита поэзии . С. 154.
- . М., 1992, с. 78.
- Подробнее см.: О любви и красотах женщин. Трактаты о любви эпохи Возрождения . М., 1992.
- Шестаков В. П. Философия любви и красоты эпохи Возрождения. В книге: О любви и красотах женщин. Трактаты о любви эпохи Возрождения . С. 13.
- Там же, с. 14.
- Bergbush M. Rebellion in "New Arcadia". In "Philological Quaterly ", published by the Universityt of Iova, vol. 53, № 1, p. 30.
- Там же, p. 31.
- Там же, p. 41.
- Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры . СПб., 1996, с. 224.
- Там же, с. 165.
Примечания:
Из романа «Аркадия»
О милый лес, приют уединения!
Как любо мне твое уединение!
Где разум от тенет освобождается
И устремляется к добру и истине;
Где взорам сонмы предстают небесные,
А мыслям образ предстает Создателя,
Где Созерцания престол находится,
Орлинозоркого, надеждокрылого;
Оно летит к звездам, под ним Природа вся.
Ты - словно царь в покое не тревожимом,
Раздумья мудрые к тебе стекаются,
Птиц голоса несут тебе гармонию,
Возводят древеса фортификацию;
Коль мир внутри, снаружи не подступятся.
О милый лес, приют уединения!
Как любо мне твое уединение!
Тут нет предателя под маской дружества,
Ни за спиной шипящего завистника,
Ни интригана с лестью ядовитою,
Ни наглого шута замысловатого,
Ни долговой удавки благодетеля,
Ни болтовни - кормилицы невежества,
Ни подлипал, чесателей тщеславия;
Тут не приманят нас пустые почести,
Не ослепят глаза оковы золота;
О злобе тут, о клевете не слышали,
Коль нет греха в тебе - тут грех не хаживал.
Кто станет поверять неправду дереву?
О милый лес, приют уединения!
Как любо мне твое уединение!
Но если бы душа в телесном здании,
Прекрасная и нежная, как лилия,
Чей голос - канарейкам посрамление,
Чья тень - убежище в любой опасности,
Чья мудрость в каждом слове тихом слышится,
Чья добродетель вместе с простодушием
Смущает даже сплетника привычного,
Обезоруживает жало зависти,
О, если бы такую душу встретить нам,
Что тоже возлюбила одиночество,
Как радостно ее бы мы приветили.
О милый лес! Она бы не разрушила -
Украсила твое уединение.
Из «Астрофила и Стеллы»
Не выстрелом коротким наповал
Не выстрелом коротким наповал
Амур победы надо мной добился:
Как хитрый враг, под стены он подрылся
И тихо город усыпленный взял.
Я видел, но еще не понимал,
Уже любил, но скрыть любовь стремился,
Поддался, но еще не покорился,
И, покорившись, все еще роптал.
Теперь утратил я и эту волю,
Но, как рожденный в рабстве московит,
Тиранство славлю и терпенье холю,
Целуя руку, коей был побит;
И ей цветы фантазии несу я,
Как некий рай, свой ад живописуя.
Как медленно ты всходишь, Месяц томный
Как медленно ты всходишь, Месяц томный,
На небосклон, с какой тоской в глазах!
Ах, неужель и там, на небесах,
Сердца тиранит лучник неуемный?
Увы, я сам страдал от вероломной,
Я знаю, отчего ты весь исчах,
Как в книге, я прочел в твоих чертах
Рассказ любви, мучительной и темной.
О бледный Месяц, бедный мой собрат!
Ответь, ужели верность там считают
За блажь - и поклонения хотят,
Но поклоняющихся презирают?
Ужель красавицы и там, как тут,
Неблагодарность гордостью зовут?
О Стелла! жизнь моя, мой свет и жар
О Стелла! жизнь моя, мой свет и жар,
Единственное солнце небосклона,
Луч негасимый, пыл неутоленный,
Очей и взоров сладостный нектар!
К чему ты тратишь красноречья дар,
Властительный, как арфа Амфиона,
Чтоб загасить костер любви, зажженный
В моей душе твоих же силой чар?
Когда из милых уст слова благие
Являются, как перлы дорогие,
Что впору добродетели надеть,
Внимаю, смыслом их едва задетый,
И думаю: «Какое счастье - этой
Прелестной добродетелью владеть!»
Ужели для тебя я меньше значу
Ужели для тебя я меньше значу,
Чем твой любимый мопсик? Побожусь,
Что угождать не хуже я гожусь, -
Задай какую хочешь мне задачу.
Испробуй преданность мою собачью:
Вели мне ждать - я в камень обращусь,
Перчатку принести - стремглав помчусь
И душу принесу в зубах в придачу.
Увы! мне - небреженье, а ему
Ты ласки расточаешь умиленно,
Целуешь в нос; ты, видно по всему,
Лишь к неразумным тварям благосклонна.
Что ж - подождем, пока любовь сама
Лишит меня последнего ума.
Песня пятая
Когда твой взор во мне надежду заронил,
С надеждою - восторг, с восторгом - мыслей пыл,
Язык мой и перо тобой одушевились.
Я думал: без тебя слова мои пусты,
Я думал: всюду тьма, где не сияешь ты,
Явившиеся в мир служить тебе явились.
Я говорил, что ты прекрасней всех стократ,
Что ты для глаз бальзам, для сердца сладкий яд,
Что пальчики твои - как стрелы Купидона,
Что очи яркостью затмили небосвод,
Что перси - млечный путь, речь - музыка высот,
И что любовь моя, как океан, бездонна.
Теперь - надежды нет, восторг тобой убит,
Но пыл еще живет, хотя, сменив свой вид,
Он, в ярость обратясь, душою управляет.
От славословий речь к упрекам перешла,
Там ныне брань звучит, где слышалась хвала;
Ключ, заперший ларец, его ж и отпирает.
Ты, бывшая досель собраньем совершенств,
Зерцалом красоты, обителью блаженств
И оправданьем всех, без памяти влюбленных,
Взгляни: твои крыла волочатся в пыли,
Бесславья облака лазурь заволокли
Твоих глухих небес, виной отягощенных.
О Муза! ты ее, лелея на груди,
Амврозией своей питала - погляди,
На что она твои дары употребила!
Презрев меня, она тобой пренебрегла,
Не дай смеяться ей! - ведь, оскорбив посла,
Тем самым Госпожу обида оскорбила.
Ужели стерпишь ты, когда задета честь?
Трубите, трубы, сбор! Месть, моя Муза, месть!
Рази врага скорей, не отвращай удара!
Уже в моей груди клокочет кипяток;
О Стелла, получи заслуженный урок:
Правдивым - честный мир, коварству - злая кара.
Не жди былых речей о белизне снегов,
О скромности лилей, оттенках жемчугов,
О локонах морей в сиянье лучезарном, -
Но о душе твоей, где слово с правдой врозь,
Неблагодарностью пропитанной насквозь.
Нет в мире хуже зла, чем быть неблагодарным!
Нет, хуже есть: ты - вор! Поклясться я готов.
Вор, Господи прости! И худший из воров!
Вор из нужды крадет, в отчаянье безмерном,
А ты, имея все, последнее берешь,
Все радости мои ты у меня крадешь.
Врагам вредить грешно, не то что слугам верным.
Но благородный вор не станет убивать
И новые сердца для жертвы выбирать.
А на твоем челе горит клеймо убийцы.
Кровоточат рубцы моих глубоких ран,
Их нанесли твои жестокость и обман, -
Так ты за преданность решила расплатиться.
Да чтó убийцы роль! Есть множество улик
Других бесчинных дел (которым счет велик),
Чтоб обвинить тебя в тиранстве окаянном.
Я беззаконно был тобой порабощен,
Сдан в рабство, без суда на пытки обречен!
Царь, истину презрев, становится Тираном.
Ах, этим ты горда! Владыкой мнишь себя!
Так в подлом мятеже я обвиню тебя!
Да, в явном мятеже (Природа мне свидетель):
Ты в княжестве Любви так нежно расцвела,
И что ж? - против Любви восстанье подняла!
С пятном предательства что стоит добродетель?
Но хоть бунтовщиков и славят иногда,
Знай: на тебе навек лежит печать стыда.
Амуру изменив и скрывшись от Венеры
(Хоть знаки на себе Венерины хранишь),
Напрасно ты теперь к Диане прибежишь! -
Предавшему хоть раз уже не будет веры.
Что, мало этого? Прибавить черноты?
Ты - Ведьма, побожусь! Хоть с виду ангел ты;
Однако в колдовстве, не в красоте здесь дело.
От чар твоих я стал бледнее мертвеца,
В ногах - чугунный груз, на сердце - хлад свинца,
Рассудок мой и плоть - все одеревенело.
Но ведьмам иногда раскаяться дано.
Увы! мне худшее поведать суждено:
Ты - дьявол, говорю, в одежде серафима.
Твой лик от божьих врат отречься мне велит,
Отказ ввергает в ад и душу мне палит,
Лукавый Дьявол ты, соблазн необоримый!
И ты, разбойница, убийца злая, ты,
Тиранка лютая, исчадье темноты,
Предательница, бес, - ты все ж любима мною.
Что мне еще сказать? - когда в словах моих
Найдешь ты, примирясь, так много чувств живых,
Что все мои хулы окажутся хвалою.
Из «Разных стихотворений»
Расставание
Я понял, хоть не сразу и не вдруг,
Зачем о мертвых говорят: «Ушел», -
Казался слишком вялым этот звук,
Чтоб обозначить злейшее из зол;
Когда же звезд жестоких произвол
Направил в грудь мою разлуки лук,
Я понял, смертный испытав испуг,
Что означает краткий сей глагол.
Еще хожу, произношу слова,
И не обрушилась на землю твердь,
Но радость, жившая в душе, мертва,
Затем, что с милой разлученье - смерть.
Нет, хуже! смерть все разом истребит,
А эта - счастье губит, муки длит.
Нянька-красота
На мотив Baciami vita mia
Желанье, спи! Спи, дитятко родное!
Так нянька Красота поет, качая.
- Любовь, меня ты будишь, усыпляя!
Спи, мой малыш, не хныча и не ноя!
Я от тебя устала, шалопая.
- Увы, меня ты будишь, усыпляя!
Спи, засыпай! Что, дитятко, с тобою?
Прижму тебя к груди… Ну, баю-баю!
- Нет! - плачет. - Так совсем не засыпаю!
Гибельная отрада
Гибельная отрада,
Мука моя живая,
Ты заставляешь взор мой
К жгучим лучам стремиться.
От красоты небесной,
От чистоты слепящей
Ум отступил в разброде,
Чувства же в плен предались,
Радостно в плен предались,
Обеззащитив сердце,
Жизни меня лишая;
К солнцам ушли лучистым,
К пламени, где погибли
Самой прекрасной смертью, -
Словно Сильван, который
В яркий костер влюбился,
Встретив его впервые.
Но, Госпожа, их жизни
В смерти ты сохранила,
Ты, в ком любовь нетленна;
Чувство мое погибло,
Сам я погиб без чувства,
Все же в тебе мы живы.
Я превращен навеки
В цвет, что главу вращает
За тобой, мое солнце.
Коль упаду - восстану,
Коли умру - воскресну,
В смене лиц - неизменен.
Нет без тебя мне жизни,
Чувства мои - с тобою,
Думы мои - с тобою,
То, что ищу, - в тебе лишь.
Все, что во мне, - одна ты.
Филип Сидни
Защита поэзии
Филип Сидни
Защита поэзии
Перевод Л. И. Володарской
Когда благородный Эдвард Уоттон и я находились при императорском дворе {1}, искусству верховой езды нас обучал Джон Пьетро Пульяно, который с великим почетом правил там в конюшне {2}. И, не разрушая нашего представления о многосторонности итальянского ума, он не только передавал нам свое умение, но и прилагал усилия к тому, чтобы обогатить наши умы размышлениями, с его точки зрения, наиболее достойными. Насколько я помню, никто другой не наполнял мои уши таким обилием речей, когда (разгневанный малой платой или воодушевленный нашим ученическим обожанием) он упражнялся в восхвалении своего занятия. Он внушал нам, что они и хозяева войны, и украшение мира, что они стремительны и выносливы, что нет им равных ни в военном лагере, ни при дворе. Более того, ему принадлежит нелепое утверждение, будто ни одно мирское достоинство не приносит большей славы королю, чем искусство наездника, в сравнении с которым искусство управления государством казалось ему всего только pedanteria {Мелочной въедливостью (итал.).}. В заключение он обычно воздавал хвалу лошади, которая не имеет себе равных среди животных: она и самая услужливая без лести, и самая красивая, и преданная, и смелая, и так далее в том же роде. Так что не учись я немного логике {3} до того, как познакомился с ним, то подумал бы, будто он убеждает меня пожалеть, что я не лошадь. Однако, хоть и не короткими речами, он все же внушил мне мысль, что любовь лучше всякой позолоты заставляет нас видеть прекрасное в том, к чему мы причастны.
Итак, если Пульяно с его сильной страстью и слабыми доводами {4} вас не убедил, я предложу вам в качестве другого примера самого себя, который (не знаю, по какому несчастью) в нестарые и самые свои беззаботные годы внезапно оказался в звании поэта, и теперь мне приходится защищать занятие, которого я для себя не желал, потому если в моих словах окажется более доброй воли, нежели разумных доводов, будьте к ним снисходительны, ибо простится ученику, следующему за своим учителем. Все же должен сказать, поскольку я считаю своим печальным долгом защищать бедную Поэзию {5}, которая раньше вызывала чуть ли не самое большое уважение у ученых мужей, а теперь превратилась в посмешище для детей, то я намереваюсь привести все имеющиеся у меня доводы, потому что если раньше никто не порочил ее доброе имя, то теперь против нее, глупенькой, зовут на помощь даже философов, что чревато великой опасностью гражданской войны между Музами.
Во-первых, мне кажется справедливым напомнить всем тем, кто, исповедуя познание, поносит Поэзию, что очень близки они к неблагодарности в стремлении опорочить то, что самые благородные народы, говорящие на самых благородных языках, почитают как первый источник света в невежестве, как кормилицу, молоком своим укрепившую их для более труднодоступных наук. И не уподобляются ли они ежу {6}, который, пробравшись в чужую нору как гость, выжил оттуда хозяина? Или ехидне, рождением своим убивающей родительницу? {7} Пусть просвещенная Греция с ее многочисленными науками покажет мне хотя бы одну книгу, созданную до Мусея, Гомера и Гесиода {8}, - а ведь эти трое были только поэтами. Нет, никакой истории не под силу найти имена сочинителей, которые бы, живя раньше, творили другое искусство, нежели искусство Орфея, Лина {9} и прочих, которые первыми в этой стране, думая о потомстве, поручили свои знания перу и могут по справедливости быть названы отцами в познании: ибо не только по времени они первые (хотя древность всегда почтенна), но также и потому, что первыми стали чарующей красотой побуждать дикие, неукрощенные умы к восхищению знанием. Рассказывают, что Амфион {10} с помощью поэзии двигал камни, когда строил Фивы, и что Орфея заслушивались звери - на самом деле бесчувственные, звероподобные люди. У римлян были Ливии Андроник и Энний {11}. Поэты Данте, Боккаччо и Петрарка {12} первыми возвысили итальянский язык, превратив его в сокровищницу науки. В Англии были Гауэр и Чосер {13}, и за ними, восхищенные и воодушевленные несравненными предшественниками, последовали другие, украшая наш родной язык как в этом, так и в других искусствах.
И столь это было очевидно, что философы Греции долгое время отваживались являть себя миру не иначе, как под маскою поэта. Фалес, Эмпедокл и Парменид {14} пели свою натурфилософию в стихах, так же поступали Пифагор и Фокилид {15} со своими нравоучениями, Тиртей {16} - с военным делом и Солон {17} - с политикой; вернее сказать, будучи поэтами, они прилагали свой талант к таким областям высшего знания, которые до них оставались скрытыми от людей. То, что мудрый Солон был истинным поэтом, явствует из знаменитого сказания об Атлантиде, написанного им стихами и продолженного Платоном {18}.
Воистину даже у Платона каждый, вчитавшись, обнаружит, что хоть содержание и сила его творений суть Философия, но одеяние их и красота заимствованы им у Поэзии, ибо все зиждется у него на диалогах, в которых многих честных граждан Афин он заставляет рассуждать о таких материях, о которых им нечего было бы сказать даже на дыбе; кроме того, если поэтические описания их встреч - будь то на богатом пиру или во время приятной прогулки - с вплетенными в них простыми сказками, например о кольце Гигеса {19}, не покажутся кому-то цветами поэзии, значит, никогда нога этого человека не ступала в сад Аполлона {20}.
И даже историографы (хотя на устах у них события минувшие, а на лбах начертана истина) с радостью заимствовали манеру и насколько возможно влияние поэтов. Так, Геродот {21} дал своей Истории имена девяти Муз; он, подобно другим, последовавшим за ним, присвоил себе принадлежащие Поэзии пылкие описания страстей, подробные описания сражений, о которых не дано знать ни одному человеку, но если тут мне могут возразить, то уж ни великие цари, ни полководцы никогда не произносили те пространные речи, которые вложены в их уста.
Ни философ, ни историограф, разумеется, не смогли бы в те давние времена войти в ворота народных суждений, не будь у них могущественного ключа - Поэзии, которую и теперь легко обнаружить у тех народов, у которых еще не процветают науки, однако и они уже познали Поэзию.
В Турции, за исключением законодателей-богословов, нет других сочинителей, кроме поэтов. В соседней нам Ирландии, где настоящая ученость распространяется скудно, к поэтам относятся с благоговейным почтением. Даже у самых варварских и невежественных индейцев, которые еще не знают письменности, есть поэты, и они слагают и поют песни - areytos - о деяниях предков и милости богов. Возможно, что образование придет и к ним, но после того, как нежные услады Поэзии смягчат и изощрят их неповоротливые умы, ибо, пока не находят они удовольствия в умственных упражнениях, никакие великие посулы не убедят их, не познавших плодов познания. Достоверные источники рассказывают о том, что в Уэльсе, на земле древних бриттов, поэты были и в далеком прошлом и там их называли bards; они пережили все нашествия и римлян, и саксов, и датчан, и норманнов, стремившихся уничтожить даже самое память о знаниях, и живы поныне. Раннее рождение Поэзии не более замечательно, чем ее долгая жизнь.